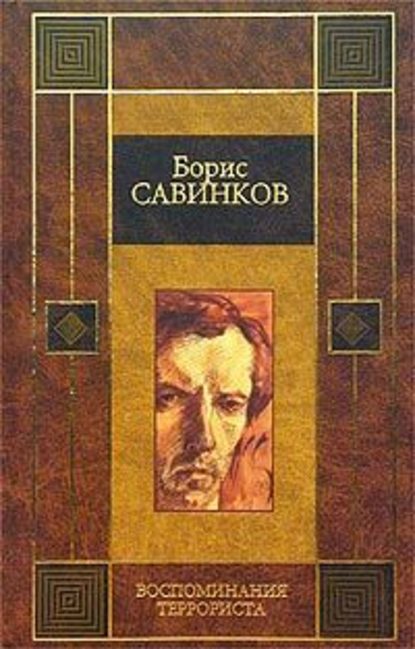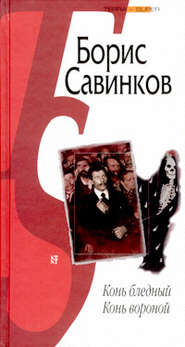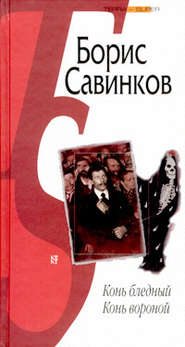По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания террориста
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А не испугался ли он? Не выбросил ли он динамит еще в Вене, а потом придумал всю историю? Я его расспрошу.
Азеф сам расспросил Шпайзмана. Впоследствии Шпайзман уже перед смертью, из тюрьмы, передавал нам, что история на границе верна от слова до слова.
Зильберберг вернулся с сотней паспортных бланков. Он их купил в городе Слониме. Я сделал паспорта для Школьник и Шпайзмана, и они, поселившись вместе, занялись уличной торговлей. Он продавал папиросы, она – цветы. На Крещатике не воспрещалась торговля вразнос, и наблюдать было чрезвычайно удобно: нужно было только занять места недалеко от Институтской улицы, где находился дом генерал-губернатора. Я предложил Шпайзману торговать у Купеческого сада, чтобы видеть Клейгельса, если он поедет на Подол на пароходную пристань. Школьник наблюдала правее Институтской, на углу Анненской, и не могла пропустить выезда в город или на вокзал. Регулярных выездов у Клейгельса быть не могло, и мы решили поэтому, выяснив его внешность, приступить к покушению в один из тех дней, когда он по обязанностям службы бывал в соборе, – например, в царский день. По принятому нами плану Школьник и Шпайзман должны были наблюдать с 9 утра до 12 часов дня и с 1 часа до 8 вечера. Трудно было предположить, что Клейгельс после восьми вечера может выезжать куда-либо, кроме театра. Нам же было известно из просмотренных за год газет, что в театрах он бывал исключительно редко.
Зильберберг и я тоже старались гулять по Крещатику. Вскоре нам обоим удалось увидеть Клейгельса. Он ехал в открытой коляске. Этим устранялась возможность ошибки при покушении.
Однажды в июне я, по обыкновению, бродил по Крещатику. Вдруг неожиданно я услышал за собою голос:
– Позвольте вас на минуту.
Я был уверен, что это филер. Кто же мог обратиться ко мне с такими словами? Я обернулся. Передо мной стоял Дыдынский.
Мы вошли с ним в кондитерскую. Там Дыдынский рассказал мне свою историю – как он вскрыл себе жилы в бане, как был арестован и отвезен в Киев. Кончил он просьбой принять его вновь в боевую организацию.
Я сказал:
– Слушайте, Дыдынский, неужели вы думаете, что товарищи теперь согласятся на это?
Он опустил голову.
Я продолжал:
– Я первый не соглашусь. В сущности, вы ведь совершили преступление против организации.
Тогда Дыдынский сказал:
– Я не могу жить. Я решил так или иначе убить Клейгельса. Я убью его один, если вы не поможете мне.
Я сказал ему, что мы, конечно, будем приветствовать убийство Клейгельса, кто бы его ни убил. Он спросил:
– А на суде могу я назвать себя членом боевой организации?
Я сказал:
– Слушайте, оставим это: вы не убьете Клейгельса. Не думайте больше о терроре: ведь не всякий обязан стрелять и бросать бомбы. Работайте лучше в мирной работе.
Дыдынский настаивал на своем. Он говорил, что пойдет на Клейгельса один, что он не нуждается в помощи и не просит ее, что ему нужно одно: иметь право назвать себя на суде членом боевой организации. Он говорил также, что чувствует свою вину перед товарищами по делу Плеве и хочет ее загладить. В случае неудачного покушения он, по его словам, будет молчать на суде.
Выслушав его, я сказал:
– Мы вам ни позволить, ни запретить убить Клейгельса не можем. У вас есть револьвер, вы легко, как человек легальный и со связями в Киеве, можете добиться приема у генерал-губернатора, это ваше дело. Но помогать мы вам не будем, и встречаться с вами я не хочу. Если же вы убьете Клейгельса, можете назвать себя членом боевой организации. Еще скажу вам следующее: никаких приготовлений ваше покушение не требует – вы его можете совершить в любой день приема у Клейгельса. Даю вам сроку три недели: если через три недели Клейгельс не будет убит, я буду считать, что вы сегодня ничего мне не говорили.
Через три недели Клейгельс не был убит. А еще через несколько дней я опять встретил Дыдынского на Крещатике. Он сделал вид, что не замечает меня.
V
Гуляя часто по Крещатику в те часы, когда Шпайзман и Школьник должны были наблюдать за Клейгельсом, я редко видел их на местах. Особенно редко бывал на посту Шпайзман. Встречаясь с ними по вечерам, в Царском саду или где-нибудь в трактире, я не раз высказывал им свое удивление. Они объясняли свое отсутствие разными причинами: то Шпайзман был нездоров, то у Школьник болит голова от уличного шума и т. п. Мне казалось, однако, что они что-то от меня скрывают. То же самое впечатление было у Зильберберга, который часто присутствовал при наших встречах. Было странно, что наблюдение тянется уже месяц, а наблюдающие систематически еще не видели Клейгельса, между тем как Зильберберг и я, наблюдая случайно, уже встречали его. Эта загадочность и поведение Школьник не соответствовали моему представлению о ней как о фанатике революции, как о человеке, который во имя террора готов на всякую жертву. Однажды я вызвал ее на свидание одну, без Шпайзмана, и откровенно высказал ей свое мнение: я сказал ей, что лучше бросить дело совсем, чем вести его таким образом. Когда я кончил, я увидел в глазах ее слезы. Сильно жестикулируя, она заговорила со своим типичным еврейским акцентом.
– Ну хорошо… Я вам скажу все… Только Бога ради пусть не знает Арон.
– В чем дело?
– Арон мне не позволяет.
– Следить?
Она закрыла глаза руками:
– Он не хочет, чтобы я бросила бомбу…
Для меня это было неожиданностью: я никогда не подозревал, что Шпайзман может по каким бы то ни было причинам противиться покушению. Я сказал:
– Но ведь не вы будете бросать бомбу, а он. Вы ведь будете только в резерве.
– Все равно. Он не хочет и этого.
Я тоже не хотел этого. Но выбора не было: нужно было идти либо Школьник, либо Зильбербергу. Кроме того, я надеялся, что Клейгельс будет убит первой бомбой: бомбы были сделаны Зильбербергом, и на Крещатике не было большого движения; ничто не могло помешать метальщику подбежать к коляске. Я сказал:
– А вы? Вы этого хотите?
Она подняла на меня свои заплаканные глаза:
– Вы спрашиваете. Как вы можете спрашивать?
Через несколько дней я сказал Шпайзману:
– Я вас не вижу на улице… Может быть, вы не хотите следить?
– Он смутился:
– По правде сказать, я думаю не о Клейгельсе.
– А о ком?
– О Трепове.
– Но вы ведь знаете – мы с вами уже говорили, – для дела Трепова нужна большая организация, а ее пока нет, и, кроме того, вам, как еврею, неудобно выступать в Петербурге.
– Да… Но что же такое Клейгельс?
Я сказал ему, что он знал заранее, что будет участвовать в покушении именно на Клейгельса, и заранее соглашался на это, даже просил об этом. Я сказал также, что принуждать его мы, конечно, не можем и что если он не хочет работать в Киеве, то организация вернет ему немедленно свободу действий.
Шпайзман смутился еще больше:
– Вы мне предлагаете уйти из организации?
– Нет, я только не хочу вас принуждать.