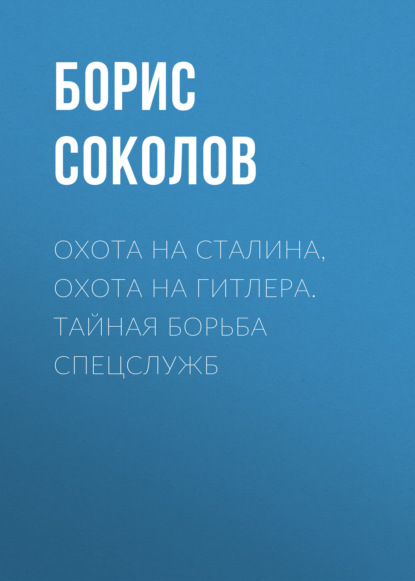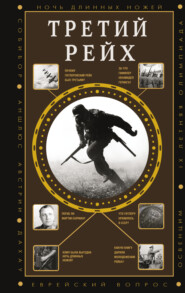По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Охота на Сталина, охота на Гитлера. Тайная борьба спецслужб
Автор
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я туда-сюда, по помещению, к начальству охраны: пропусти, мол, сотрудника „Правды“ на трибуну речь записать – ничего не удается.
В паршивом несколько настроении. Внутри что-то говорит: „Вот видишь, ты не в силах – ничего больше не сделаешь, – значит, стрелять не придется“.
Но все-таки попытался еще раз (для очистки совести) попасть через ребят на трибуну, и удалось – вынесли билет, и вот я на трибуне. Ждем, беседуем с ребятами, и рукою в кармане револьвер поглаживаю.
„Вот, – думаю, – не знает никто, что сейчас произойдет. Вот сядут все спокойно и не подозревая, что сегодня в этом театре убийство произойдет“.
Начинается заседание.
Сталина нет, Рыкова нет, есть Бухарин.
„Ну, значит, давай в Бухарина стрелять“.
Посмотрел я на него – как-то жаль его стало, – уж больно симпатичен он. Но решил все равно – сегодня я должен в него выстрелить.
Наконец он кончил свой доклад, но не уходит, сидит в президиуме (я мог бы, конечно, к нему подойти и теперь, но решил, что стрелять при всем народе, переполнившем театр, не стоит – нецелесообразно, мол).
Решил подождать, когда он будет уходить.
Сижу – слежу за ним.
Вот он поднялся – я дрогнул, – все внутри задрожало, напряглось, но нет. Оказывается, он пересел на другой стул.
Вот обратно сел на место.
Я жду, вот, вот он подымется и пойдет.
Я решал – я пойду вслед за ним и, подойдя к нему – выстрелю в него. Жду, чувствую, все мускулы напряжены.
В кармане сжимаю рукоятку револьвера (на допросе Гуревич уточнил, что револьвер был системы „наган“. – Б. С.).
Вот, вот он собирается уходить. Берет папку свою и направляется к выходу. Я поднимаюсь одновременно с ним и тоже иду по направлению к выходу.
Мне кажется, что все смотрят на меня.
Мне кажется, что подозрительно на меня смотрят.
Я выхожу за кулисы.
Он задержался у стола стенографистов.
Я пошел посмотреть, где он. Он идет мне навстречу.
Все сторонятся, дорогу ему дают.
Я сжимаю рукоятку, думаю о том, как ее удобно взять, чтобы сразу вытащить и выстрелить.
Я чувствую, что рука, все тело уже горело. Интересно, что револьвер не вынимается сразу из кармана.
Но вот он пошел за военным (пропуск в копии документа), выстроился при виде его, смирно, руки по швам.
Вот сейчас, сейчас нужно вытащить револьвер и выстрелить.
Я слышу, явственно слышу и речь оратора, и говор толпы.
Я отлично понимаю, что вот сейчас нужно выпалить, что вот пришел момент, когда нужно выстрелить.
Но… рука осталась в кармане, револьвер тоже. Он прошел мимо меня, я не стрелял.
Мысли мелькают.
Мелькает мысль, что вот зайдет он в ту комнату, что напротив, оденет пальто и выйдет отсюда, это вот тогда я в него выстрелю. Но он поворачивает налево и заходит в ложу.
„Одевшись, он оттуда же уйдет, не пройдет мимо меня“, – решил я.
И ушел на сцену.
Сажусь на свой стул и чувствую, что весь трясусь и в этот момент думал о том, чтобы люди не заподозрили меня в чем-либо.
Но ничего, никто на меня не глядит.
Через пять минут я заговорил с ребятами.
Вот сейчас, когда я пишу эти строки, я сижу и думаю, верно мог бы я сидеть на месте, куда выходит дверь из ложи, ведь, может быть, тот солдат, что стоял у этой лестницы, и не остановил бы меня.
Почему я этого не сделал.
Нет, это ерунда.
Раз я не выстрелил в него тогда, когда он проходил мимо меня в первый раз, я бы не выстрелил бы и позже.
Но почему, все-таки почему я в него не выстрелил.
Вот сейчас мне кажется, что будь на его месте Сталин или Рыков, я бы определенно выстрелил, а вот Бухарина мне жаль было убивать.
Вот сейчас, мне кажется, что будь это не в присутствии столь многочисленного заседания, я бы и Бухарина убил.
Нет, и ни тогда, и никогда я никого не убью. „Кишка слаба“ – как говорил Джек Лондон.
Не хватает во мне чего-то.
Настоящий, типичный интеллигент.
Слова – но не дела.
Так и я. Вот, все возможности были, я не убил.
А все-таки кажется, что будь это Рыков, я бы убил».
В паршивом несколько настроении. Внутри что-то говорит: „Вот видишь, ты не в силах – ничего больше не сделаешь, – значит, стрелять не придется“.
Но все-таки попытался еще раз (для очистки совести) попасть через ребят на трибуну, и удалось – вынесли билет, и вот я на трибуне. Ждем, беседуем с ребятами, и рукою в кармане револьвер поглаживаю.
„Вот, – думаю, – не знает никто, что сейчас произойдет. Вот сядут все спокойно и не подозревая, что сегодня в этом театре убийство произойдет“.
Начинается заседание.
Сталина нет, Рыкова нет, есть Бухарин.
„Ну, значит, давай в Бухарина стрелять“.
Посмотрел я на него – как-то жаль его стало, – уж больно симпатичен он. Но решил все равно – сегодня я должен в него выстрелить.
Наконец он кончил свой доклад, но не уходит, сидит в президиуме (я мог бы, конечно, к нему подойти и теперь, но решил, что стрелять при всем народе, переполнившем театр, не стоит – нецелесообразно, мол).
Решил подождать, когда он будет уходить.
Сижу – слежу за ним.
Вот он поднялся – я дрогнул, – все внутри задрожало, напряглось, но нет. Оказывается, он пересел на другой стул.
Вот обратно сел на место.
Я жду, вот, вот он подымется и пойдет.
Я решал – я пойду вслед за ним и, подойдя к нему – выстрелю в него. Жду, чувствую, все мускулы напряжены.
В кармане сжимаю рукоятку револьвера (на допросе Гуревич уточнил, что револьвер был системы „наган“. – Б. С.).
Вот, вот он собирается уходить. Берет папку свою и направляется к выходу. Я поднимаюсь одновременно с ним и тоже иду по направлению к выходу.
Мне кажется, что все смотрят на меня.
Мне кажется, что подозрительно на меня смотрят.
Я выхожу за кулисы.
Он задержался у стола стенографистов.
Я пошел посмотреть, где он. Он идет мне навстречу.
Все сторонятся, дорогу ему дают.
Я сжимаю рукоятку, думаю о том, как ее удобно взять, чтобы сразу вытащить и выстрелить.
Я чувствую, что рука, все тело уже горело. Интересно, что револьвер не вынимается сразу из кармана.
Но вот он пошел за военным (пропуск в копии документа), выстроился при виде его, смирно, руки по швам.
Вот сейчас, сейчас нужно вытащить револьвер и выстрелить.
Я слышу, явственно слышу и речь оратора, и говор толпы.
Я отлично понимаю, что вот сейчас нужно выпалить, что вот пришел момент, когда нужно выстрелить.
Но… рука осталась в кармане, револьвер тоже. Он прошел мимо меня, я не стрелял.
Мысли мелькают.
Мелькает мысль, что вот зайдет он в ту комнату, что напротив, оденет пальто и выйдет отсюда, это вот тогда я в него выстрелю. Но он поворачивает налево и заходит в ложу.
„Одевшись, он оттуда же уйдет, не пройдет мимо меня“, – решил я.
И ушел на сцену.
Сажусь на свой стул и чувствую, что весь трясусь и в этот момент думал о том, чтобы люди не заподозрили меня в чем-либо.
Но ничего, никто на меня не глядит.
Через пять минут я заговорил с ребятами.
Вот сейчас, когда я пишу эти строки, я сижу и думаю, верно мог бы я сидеть на месте, куда выходит дверь из ложи, ведь, может быть, тот солдат, что стоял у этой лестницы, и не остановил бы меня.
Почему я этого не сделал.
Нет, это ерунда.
Раз я не выстрелил в него тогда, когда он проходил мимо меня в первый раз, я бы не выстрелил бы и позже.
Но почему, все-таки почему я в него не выстрелил.
Вот сейчас мне кажется, что будь на его месте Сталин или Рыков, я бы определенно выстрелил, а вот Бухарина мне жаль было убивать.
Вот сейчас, мне кажется, что будь это не в присутствии столь многочисленного заседания, я бы и Бухарина убил.
Нет, и ни тогда, и никогда я никого не убью. „Кишка слаба“ – как говорил Джек Лондон.
Не хватает во мне чего-то.
Настоящий, типичный интеллигент.
Слова – но не дела.
Так и я. Вот, все возможности были, я не убил.
А все-таки кажется, что будь это Рыков, я бы убил».