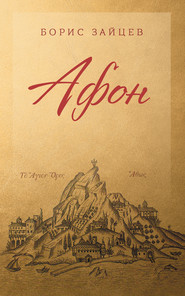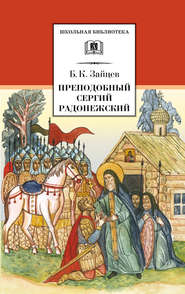По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но стихи той же полосы, тою же любовию прямо или косвенно вдохновленные, украшают вполне «Вестник Европы». Сохраняются прочно и в словесности нашей. Кто, кроме Жуковского, мог написать такую «Песнь» («Мой друг, хранитель-ангел мой…») – некий священный гимн Маше, таким восторгом, светом полный, всю жизнь потом волновавший его (да и ее):
Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной.
…………………………………..
Ты мне все блага на земли;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.
Любовь есть восторг, но и горечь: не зря он начинал под знаком меланхолии. Вот послание «К Нине». Смерть – уносит ли с собою и любовь? Все ли мгновенно, погибает?
О Нина, о Нина, сей пламень любви
Ужели с последним дыханьем угаснет?
В словах как бы и утешение:
О Нина, я внемлю таинственный голос:
Нет смерти, вещает, для нежной любви.
Но тон послания островозбужденный, взошедший на вечной печали расставания с любимой.
Мой друг, не страшися минуты конца…
…………………………………………….
Я буду игрою небесныя арфы
Последнюю муку твою услаждать…
Смерть бродит около. От нее надо закрыться, ее преодолеть.
«К Филалету» (Послание Ал. Тургеневу) меланхолией напоено уже вполне. Есть в нем глухой намек на судьбу собственной любви («…И невозвратное надежд уничтоженье»). Даже отдать жизнь свою за счастье близкого существа не дано, не говоря уже о счастливом завершении любви.
(Жуковский мог только еще мечтать о браке. Ничего выяснено не было, но висела угроза: родство. Маша – дочь его сводной сестры, полуплемянница. Может ли стать женою? Благословит ли на это мать?)
Все было еще впереди, а пока напряженная и обостренная, скромно-монашеская, полная творчества и труда жизнь в Москве. Среди чтения рукописей и корректур, треволнений и восторгов сердечных идет медленная внутренняя перестройка по части литературной. Основная и давняя его закваска – французская. На ней взошел он. Но уже Андрей Тургенев кое-что заронил: есть и германская литература. В 1806 году просит Жуковский (Александра Тургенева) прислать «что-нибудь хорошее из немецкой философии», она больше возбуждает энтузиазм. Гёте и Шиллера знает он довольно давно, но доходят они неторопливо, как и язык немецкий. (Первый перевод его из Шиллера «Тоска по милом» – 1807 год – говорит о неполном владении языком.)
В «Вестнике Европы» он дает все еще много места французской литературе. Печатает Шатобриана (путешествие в Грецию, Иерусалим), Жанлис, Шанфора. Как критик находится во власти Лагарпа, хотя уже и Лессинга знает. Но Германия выдвигается – для его же собственной славы и успехов. В 1808 году напечатал он балладу «Людмила», переделку Бюргеровой «Леноры»: начало поэзии «чертей и ведьм». К его миру сердечному эта вещь отношения не имеет – писание чисто литературное. Бюргера ставит он еще в это время рядом с Шиллером. В гробовой и могильной балладе что-то его задело, он воодушевился, применил все к славянскому миру, соответственно облику своему кое-что и смягчил, во всяком случае написал остро и возбужденно. Можно так или иначе относиться к «Людмиле», но считать ее вялой нельзя. В ней есть неприкрытая обветшалость, но под ветхими декорациями жива острота самого созидания. Написавший ее писал рьяно. И как с Жуковским часто случалось, менее удержавшееся в потомстве более шумело при жизни. «Людмила», конечно, имела успех: ярко, эффектно, ночная скачка с женихом-мертвецом, церковь, петухи, вместо свадьбы могила и брачное ложе со скелетом – читателям нравилось. Но во всяком случае, хорошо было то, что Жуковский, хоть и через Бюргера, несколько аляповатого, подходил к германской поэзии, где для души его нашлась истинная родина. Скоро появляются уж и Гёте, Шиллер, среди всего этого один лишь француз – Мильвуа с «Песнью араба над могилою коня». Здесь блеснул Жуковский двустишием-рефреном:
Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит, на зыбкий одр песков пустынных пал…
шестистопный ямб летит молнией самого коня, мчащегося в пустыне (благодаря пэонам, слогам без ударения, убыстряющим ритм: радость поэтов русских в ямбе, чем и Жуковский и позже Пушкин так упивались).
Надо считать, что двухлетие это в Москве, когда он редактировал «Вестник Европы», было для него успехом. Он много работал: поэт, новеллист, критик, статьи о театре, частию публицист и философ. Журнал на всем этом выиграл. Те, кто Жуковского из деревни вызвали, не ошиблись. Но если они думали, что так навсегда и засядет он за гранки, корректуры, чтение рукописей, исправление переводов и возню с типографией, то тут не угадали. Молодого поэта редакторство может увлечь, но лишь временно, новизной, знаком успеха, материальной удачей. Жуковский при всей и мечтательности своей и полете всякое дело исполнял добросовестно. Литературное же и подавно. Как кормчий «Вестника» был на высоте. Но не вечно же этим заниматься. Тем более что тянуло в края белевские.
В 1810 году он Москву покидает – вновь для деревни.
Снова Протасовы
Екатерина Афанасьевна Белевом не удовлетворилась – решила перебраться в Муратово. Для этого пришлось строить там новый дом.
Не без удивления узнаешь, что Жуковский, из Москвы уже возвратившийся, не только изготовил план муратовского дома, но и взялся наблюдать за постройкой – вот, ему нравилось заниматься и такими делами.
Для себя же купил небольшое именьице рядом с Муратовом, некий поэтический Tusculum. Деньги – все то же бунинское наследство, но и все очень скромное, как в Белеве: домик на берегу реки. Чистота, свет, порядок – любимые черты для него. Много цветов. Перед окнами целые их террасы: ландыши, розы, тюльпаны, нарциссы. Все это сходит к реке «едва приметным склоном». Мельница «смиренна» шумит там колесами, вздымающими жемчужную пену.
Мелькает над рекой
Веселая купальня –
он сам так описывает в стихах свое жилье, разумеется, с условностью анакреонтической. Живо изображает швабского гуся, который домик свой –
На острове, под ивой,
Меж дикою крапивой
Беспечно заложил.
Здесь поселяется Жуковский, один – вроде гуся этого, но «вблизи» кое-кого. Маша теперь совсем близко. Уроков он ей более не дает, но, конечно, все с нею и связано, если бы не она, никакого Тускулума бы не появилось, да и теперь он постоянно в Муратове.
Это не значит, конечно, что его жизнь беспорядочна или праздна. В Тускулуме своем он непрерывно работает. Пишет сам, составляет антологию поэтическую «Сборник лучших русских стихотворений», занимается самообразованием. История увлекает его. Он вдруг убедился, что очень мало по этой части знает, выписывает чрез Ал. Тургенева книги, сидит над разными Гаттерерами, составляет хронологические таблицы, пишет конспекты по периодам историческим: начало того методического Жуковского, который впоследствии будет воспитывать наследника. Этим всем хочет восполнить образование – сам считает его слишком поверхностным, в Тускулуме обучение свое по-любительски и продолжает. Берется за древность – латинский язык, чтобы в подлинниках читать поэтов. Но и тут недалеко уходит. С древними поэтами знакомство его окажется чрез переводы. Но не в древности, не в истории сила. Она в вечной стихии, вечно волнующей человека. Маша, «маткина душка», которую опекает сурово-сибирская мать, – вот она и рождает в нем «звуки небесные», подземно дает славу.
Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!
Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!
Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!
Маша за сценой, смиренно невидима и неслышима (стихотворение это сохранила в своем портфеле. Нашли его после ее смерти, а напечатано оно после смерти Жуковского).
Он же живет полной, не вялой жизнью, в напряжении, творческом труде, огне любви. Позже об этой полосе своей скажет: «То была поэтическая жизнь, и только тогда я был поэтом». Последнее, разумеется, неверно. Но что жил он в Тускулуме поэтически-пронзительно, сомненья нет.
Было некоторое метание: между творчеством и любовью. Какие-то противоположности, волны душевные, но размах их не мал и в столкновении сила.
Скучно не было. С внешней стороны жизнь не отшельническая. По тем временам даже разнообразная. Кроме Муратова ездит он в Чернь, имение нового своего приятеля Плещеева. Там ему очень хорошо – совсем по-другому.
Плещеев богатый русский барин, натура художническая, одаренный любитель. Музыкант сам – играет на виолончели, сам сочиняет немного. По его нотам жена его, красавица Анна Ивановна (которую он называл почему-то «Нина»), поет отличным голосом романсы – среди них много на слова Жуковского: музыку писал муж.
К ним ездил Жуковский за сорок верст, как домой. Там его любили. Там он меньше стеснялся, чем с Екатериной Афанасьевной в Муратове. Дом Плещеевых – пышный, веселый наряд, украшение. Хозяева молодые, с артистическими чертами. Привет, широта, гостеприимство. Смуглый Плещеев с толстыми губами, черными кудрявыми волосами сам развлекался и развлекал гостей. Праздники, увеселения. Домашний театр – сам писал комедии, для опер сочинял музыку, всякие пантомимы, фарсы, конечно, не без Жуковского. Сам отлично читал, режиссировал, выступал на сцене со своими дворовыми актерами. Лицо его было некрасиво. Но что-то в нем чувствовалось приятное, и в азарте сценического исполнения, в воодушевлении театральном он просто даже и трогал. Жуковский очень его любил (в письмах называл «черная рожа», «мой негр»), тот тоже любил его. Жуковский у них жил подолгу, как поэт при маленьком дворе, но как поэт-друг, а не прихлебатель. Тут он был на равной ноге при неравном богатстве: уравновешивалось тем, что для них он не просто Жуковский, а Жуковский – надежда, чистая восходящая звезда России.
Когда от них уезжал, то из Тускулума своего переписывался в стихах, сам писал по-русски, негр отвечал французскими стихами. (Все или почти все это было шуточное, вероятно. До нас ничего не дошло – дом в Черни сгорел, с ним и все, что Жуковского касалось. Но, конечно, пропало неважное. Важное сохранилось.)
В это время он написал «Громобоя», романтическую поэму по повести Шписа «Двенадцать спящих дев».
«Громобой», как и «Людмила», – то писание Жуковского, которое теперь считается историческим. Есть отличные места, есть стихи, вошедшие в грамматику примерами, в общем же наивно, простодушно и полно ужасов не ужасающих.
Однако чрез «Людмилу» и чрез «Громобоя» должен он был пройти. Если бы они пропали, как шутливые стихи Плещееву, в ткани литературного развития его оказался бы прорыв.
К Шиллеру он подходил долго и неуверенно, но как раз теперь встреча произошла внутренно: чрез него можно было сказать нечто и о себе. (В «Жалобе» это просто стон по «маткиной душке».)