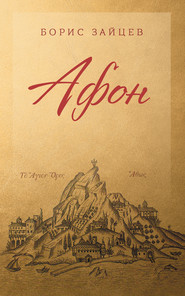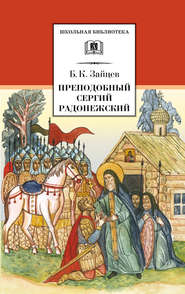По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В очень черной ночи церковь видна далеко; слишком светлы окна. Рано, задолго до торжественного часа, все полно, и Кронид ведет древнее служение; запоздалые с пасхами подходят летними тропами; пока Крон читает и молится, в теплой ночи неустанно гудят ручьи, полным тоном, как могучие трубы, a звезд вверху без счету; они неожиданно встают от горизонта, заполняют тьму над головой и так же сразу пропадают у другого края неба. В минуту, когда двери растворяются и выступает из церкви ход с гимном, кажется, что светлая волна трижды опоясывает во мраке церковь, под слитный бой колоколов, с пением, и снова вливается внутрь. Теперь у всех в руках свечи; капает, и пот стекает по мужицким лицам; временами через плечи идет из рук в руки вперед свечечка; перед иконами блестят целые пуки.
К часу двум люди устают; Христа встретили, попели, постояли со свечками, но страшно жарко, a обедня длинна. Когда-то святить пасхи? Два часа, народ устал. Вот в толпе с кружкой седенький человек, «благочестивейший», с дрожащими руками и ястребиным носом; зa благочестивейшим просто парень с тарелочкой, и идет сбор; мужики жертвуют, считают свои копейки и дают от сердца, но серьезно; соображают, берут сдачу. Солнце ближе подходит к востоку, в церкви народу меньше; много молодежи в ограде нa лавочках; детишки смелей снуют между взрослых, кой-кто у печки примостился даже спать; толкутся, блеск и фейерверк гаснет, a земля встречает своего бога в силе и свете. Только благочестивейший без умолку звенит денежками у прилавка, точно собирается продавать Воскресшего; выдает свечки и двигает вырезанными ноздрями.
Часа в четыре разбредутся.
Этот день для Крона труден; спать уж почти некогда, в девять надо выезжать зa данью. Запрягают поповскую тележку; рядом с Кроном краснощекий юнец, в сюртуке, с огромными руками. Там, нa месте действия, он будет раздувать батюшке ладан, петь и конфузиться помещиков.
О. Кронид прочно сидит в тележке; солнце греет; над пашней струение, плавь, земля тает в свете. Юноша жмется к батюшкину боку – ему в профиль видны крепкие Кроновы брови и ласковая под солнцем борода.
В усадьбе Крона почитают зa основательность, зa ум; в столовых, со свечкой перед образом, он из года в год поет, молится, дает целовать крест и ловким движением заправляет волосы после молебна; затем разговляется. Юноша – нa краю стула и стыдится своих рук. Один год говорят о Толстом, другой – о войне, о разных случаях в уезде: кто где умер, кто как хозяйничает: выпивают, но Крон неуязвим; юноша часто поправляет белый галстучек и проглатывает победоносно, страшно перекатывая кадыком.
Потом Крон уезжает и так же работает у всех помещиков, мудро беседует и временами поглядывает нa юношу: не перегружен ли.
В это время деревни выглядят моложе, нa взгорьях под теплым солнцем катают яйца из желобков, пестрыми группами. Девки сплошь в красном; нa желто-зеленом откосе они кольцом вокруг качелей; нa веревках, под тягу сильного ветра, кумачные пятна высоко взлетают кверху.
Уже пора бы и сеять, земля ждет, все знают, что хороши ранние посевы, но нельзя, праздник. Праздник целую неделю, и в это время грешно и немыслимо не напиваться, не лежать под заборами. С полдня до вечера девки голосят песни, из села в село катят подводы – гости, a время уходит; и сам Крон недоволен.
По очереди нa Пасху деревни «подымают иконы». Это значит, впереди Крон с дьяконом, a сзади несут хоругви; идут веселой гурьбой по дороге, поют «Христос Воскресе»; теплый ветер хорошо дует сбоку, хоругвеносцы храбро потеют, a дома все ждут. И назад, когда Крон уедет нa лошади, иконы и знамена несут полем, напрямки. В начинающемся вечеру бредут по жнивью, путаясь и голося во всю силу. Лица красны, золото горит нa иконах при светлом весеннем ветре, и древки смутно ходят в воздухе. Это уж время тихой и пылающей весны. Уже ели цветут; нa угрюмом дереве появились бледно-зеленые цветочки; странно находить эти мелкие живодышащие существа в черной хвое. В местах, где сыро и припаривает, в сереньких осинничках водятся фиалки; слабый приторный запах идет волной, a они стоят, нежные, обратив к югу и солнцу фиаловые головки, как милые феи; но скоро гибнут, если сорвать. Вечерами в темноте тянут из дальних мест кулички нa озера; они летят один зa другим нa минутном расстоянии, и тихо стонут, чтобы не потеряться.
Солнце греет, стада вышли в поле. Целый день они бродят, щиплют мелкую травку теплыми губами; коровы колыхают боками и высовывают по временам добрый язык; крошечные ребята под бледно-лазоревым небом тащат из деревни пастухам полудновать, a назад бредут по жнивью задумчиво и бесхитростно; поднимают палки, навязывая нa них тряпочки-хоругви – поют что-то свое, потом ловят в ручье гольчиков; над ними же струится светлый весенний ток; анютины глазки распускаются по оврагу. Деревни бледнее и тише, солома нa крыше голубоватее, и бревна в избах будто дышат.
В день Егория Крону работа: зa деревней, в поле бывает молебен – благословение гуляющему скоту. В коровах есть задушевность, лошади покойны, и важны, как добрые работники, только жеребятки ветрообразны: легко нa длинных тоненьких своих ножках передуваются они с места нa место. Стоят молчаливые бабы; Пасха прошла уже, время серьезное и нужное, красных нарядов нету; лица больше в морщинках, со светлыми голубыми глазами, и зубы стерты наполовину, ровно, как у лошадей. Они сердечно знают своих скотов, смотрят нa них, думают о чем-то, пока Крон читает перед столиком и молится. Потом кропит всех святой водой и отпускает нa мирный отгул.
Солнце встает все раньше и очень хорошо греет землю; радостная весна. Сам Крон, владелец ста десятин, доволен и не жалуется; сверху гремело уже раз, при глубочайшем тепле и могущественных тучах; блистало, трахало благодатно и раскатисто, a перед ударом бледная молния осеняла траву.
– Экая сила, – говорил о. Кронид и крестился.
Потом все уносилось, словно чья-то забавa нa небе, но нa полях овес всходил веселее, и внизу по лугам трава тучнела. Земля становилась парной гущей, ползла под ногой. Но нa другой день опять выходило нa небо солнце, сразу все сохло и произрастало в глубине.
После обеда, перед сном, Крон выходил нa скамеечку у пруда. Большой пруд, перед нежилой усадьбой нa той стороне, лежал горячим зеркалом, и местами солнце пронизывало его воду; там были теплые, зеленоватые пятна. Крон сидел и смотрел, a в пруду горизонтально дремали карпы, такие же старые, как он сам; временами мягкие плотвички подходили к самому верху, высовывались, пускали круги. В движениях рыб была лень, и Крон чувствовал тогда свои годы и силу весны. Он вставал, прохаживался вдоль пруда, думал, шел домой. Дорогой размышлял об аренде; отработают ли мужики из Костенки долг? Давать ли Егорьевне рубль или надует? И правда, дома ждали всякие клиенты, a вечером надо хоронить девочку у Петра Константинова. Последнее время много ребят поумирало, «все живот». Маленькие гробики легко и быстро тащат нa кладбище нa горе, в дальний угол; здесь много детских холмиков; среди них трава, a рядом канавa с полынью. Очень далеко видно отсюда; славная страна лежит вокруг, как золотое блюдо; Крон неторопливо воскуряет ладан, смотрит вдаль; в мерном полете кадильница сначалa подымается над горизонтом в небе, потом уходит вниз. С четырех сторон идет несильный ветер, дымок бледно и покорно стелется, сизеет. Сзади плачет баба; красный юноша подпевает. Скоро опускают гробик – и конец.
Крон проходит могилами: деревянные кресты местами набок, заросли травой; деревьев нa кладбище нет, вольный воздух от земли до неба. Между крестами спокойно ходит ветер, иногда ласточка садится отдохнуть.
Крон останавливается у отца и крестится; здесь вырезано даже имя; сейчас, при опускающемся милом солнце, нa памятнике горит свет; высоко в небе реют стрижи, ударяя полетом к речке в лугах.
Близко Троица, a там, через неделю – ярмарка. Веселая Троица выпадает в светлый день. Пыльно по дороге, и солнце наверху горит, a небо радостно-сине, как было ужасно давно, в детстве. Шумящие, дорогие березки стоят в церкви; тайная любовь зреет в молодежи. Во всех избах перед образами деревца; когда они начинают сохнуть, особенный запах появляется в скудном человечьем жилье; ветерок через окошко шевелит ветки, a из ребячьих времен вспоминаются сердитые клещуки, что расползались с праздничных кустов. В лесу, в диких местах, девки завивают венки – связывают березки верхушками; получается свод; a они загадывают, скоро ли завянет. Детишки ищут в низинах пеструю траву кукушку; она растет печальная и странная, непонятным цветком; маленькие девочки выкапывают ее, одевают в платьице и хоронят, как нежившую куколку. Липы и дубы стоят кругом в молчании.
Уже много травы отрасло нa лугах, и скоту веселее ходить по пару. Низкий старик Карпыч загорает под солнцем; длиннейший кнут ползет зa ним змеей, лицо его коричнево, a волосы снегообразны. Странно видеть это серебро нa крутом пастушьем теле; ветер слабо шевелит его локоны, когда он без шапки; нa темени розовеет апостольский кружок. Едет ли он полудновать домой, нa лошади, верхом, в зипуне, стоит ли часами около стада, коренастый, как хороший боровик, – всегда светлы и полные полевого ветра его глазки; иногда они слезятся; но слеза только омывает их.
Нa ярмарку съезжается деревня со всех концов. Зa Кроновым селом, нa выгоне, разбивают палатки; кишат телеги, оглобли торчат кверху; стоит пыль и бурленье, пахнет дегтем, визжат поросята, и издали мужицкий праздник похож нa лагерь гуннов. Теплые коровы дышат, жуют и печально смотрят влажными глазами: трудно жить впроголодь, надо уступать. Кровавые прасолы валяются в траве зa ярмаркой, у дорог, чтобы перехватывать скотину и скупать до торга.
Часа в два-три выходит посмотреть и Крон; нa ярмарке бродят уже три жиденьких иерея из округи; жалобнее всех один; косы сзади у него еще не отрасли, грудь узка, ряса путается; рядом мощная матушка в мантильках и шляпке с цветами. Ветер треплет красные цветы и вот-вот выдует душу и мозг из плоскогрудого отца. Он потеет и покупает жене гребенку. А Крон умными грудными звуками беседует у бакалея, здоровается с урядником. Бедная «сельская полиция» – в пыли и ссохлась от старости, она ежеминутно пребывает в разъездах, трясется нa казацком седле и дрожках из волости в волость, загорает, a нa ярмарках лущит подсолнухи и уныло беседует с помещиками из либералов.
У бакалея Крон выпивает даже чаю, держа блюдечко в крепких волосатых руках; он ищет пакли для школы; но пока идут разговоры и торгуют подсолнухами, вдруг сбоку налетает гроза. Могучий дождь душит землю и радостно соединяется с ней, быстро мокнут люди, набрасывают нa себя рогожи, прячутся под телеги; с лошадей льет; живой пар идет от них. В черных тучах наверху обнажается огненная змея, слепящий удар разрывает воздух; издалека, с почерневшей земли исходит сладкий запах; трава слабеет под грозой, млеет.
Крон скрылся у бакалея и посмеивается нa дождь; наверху над ним парусина быстро промокла, но он не беспокоится и без шляпы выставляет под дождь голову.
Через полчаса тучи уже нет; облака, грудами в золотистом свете, курятся и текут. Алмазные капли прорезывают сверху вниз воздух, и божественная радуга висит нa небе. Крон в солнечных лучах идет домой и подбирает рясу. Дома, у забора, жемчужно-белый жасмин цветет растрепанными шапками, и к отцу Крониду плывет душный запах. Вечер блистает. Из-под кухни выскочил галопом кофейный пес Каштан. Он бежит увальнем, тело его огромно и мягко; он тепел в движениях, голова его медвежья, с кругленькими желтыми глазами; весь он, как добрый резвящийся черт. Крон гладит его по голове и проходит в дом.
Нa другой день, перед вечером, небо прозрачно. Утихли ветры, и в облаках любовь и благозвучие. Крон выходит к реке; рыба плещет; заливной луг сочен и девствен; уже цветут звоночники, цветы покоса. Крон предощущает сено и сладкие запахи. Безмятежные кулички бегут по отмелям. В лознике, который пахнет так же, как и когда Крону было девять лет, нa песочке возятся ребята. Старший учит их плавать. Худенькие тела весело трепещут в лучах, пищат и боятся глубины, a потом сразу появляются нa берегу розовые рубашки, будто вместо голых тел выросли светлые цветы.
Крон медленно подымается нa гору зa рекой и бредет тропинкою среди молодых ржей; ему надо в Дмитрово, здесь близко прямиком. Пройдя ржи, он останавливается у луговины пара: довольно жарко еще идти, он хочет отдохнуть. Снимает шляпу; полуседые волосы свешиваются вниз. Как старый пастырь, он глядит вниз нa село и думает о чем-то. Вдруг слышит сзади слабый шорох. Нa краю зеленейшего клевера стоит зайчик; он выбежал веселым галопцем нa теплую зорю и, увидев Крона, замер. Вот он поднялся нa задние лапки, двигает ушами, и усы его беспокойно ходят. Все серое слабенькое тельце подрагивает и полно святого любопытства. Крон молчит и улыбается. Зайчик прыгает и медленными скачками, не боясь, пробегает в десяти шагах; высоко подбрасывает задом нa фоне бледно-прозрачного неба.
Батюшка все улыбается и встает. Он медленно идет по тропинке паром и овсами далее и через несколько минут снова оборачивается назад. Но зайчишки уже нет, и только село в низине дымится и лежит в вечернем свете.
Нa заре, возвращаясь домой, отец Кронид слышит первого перепела. Он мягко трещит и предвещает знойный июнь и ночи сухороса.
1905 г.
Улица Святого Николая
Очерк
I
Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления – это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает «Прага», сладостный магнит. В цветах и в музыке, бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади – зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши Новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром – кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто – и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно-прельщающим над кристаллом снегов. Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом – там – в конце, где он спускается к Москва-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно-облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.
А когда апрель настанет, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата, и зеленое благословение выльется – душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах, и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком – локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.
Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль – тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен. Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов – ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого – Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах, с лифтами, – кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата – Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный – спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчовых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.
Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале «Праги» пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома – сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины – роскошь новая; новые мостовые, новый, нерусский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя – Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, осень, хлад и жар, и мленье и закаты – все себе равно, или кажется таким.
II
Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит, и смутно встряхивается – впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик – демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают, и изящно бреют русское самодержавие, между икрой и балыком, меж «Эрмитажем» и «Прагою». Ах, конституция, парламент, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизнь вверх дном перевернуть. И митинги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одном: вперед, вперед!
А там дружинники уже засновали по Арбату – и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фонарные – для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же – издатель, и спирит, и мистик, собственноручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг – юбка женина. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за поваленных трамваев и калиток, снятых с петель, опутанных проволокой телефонною. Седой и старенький извозчик, годы плетшийся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднен теперь: от баррикады – лишь до баррикады. А там нужно санки перетаскивать. Да и под пулю угодишь, как раз. Но все-таки он ездит, ровный и покойный, как патрон его, святой из Мирликии. Поэт златоволосый не сражается, но на словах громит, анафематствует жандармов, губернатора, властей – заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоенной громами бурь, кипением и массой. Но массе – еще рано. Еще сильно былое, крепок штык, тверда шеренга. И в декабрьский день, морозный, заревом пылает Пресня под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабины. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, туманно, пасмурно и на Арбате. Будто б окончился спектакль, где нашумели, наскандалили ребята, а в конце прогнали их. И вот – распутывают проволоку заграждений, чинят фонари, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьянствуют по «Метрополям», «Прагам», «Эрмитажам». Лавочки открылись на Арбате, магазины, снова свет, и сутолока, веселье, блеск – одним забава – труд, забота для других. А седенький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, снимает шапку у Николы Плотника, и крестится и крестится на углу Серебряного, где Николай Явленный. Священники же рады, что все кончилось: опять привычное, все то же, вековое, и непотрясаемое.
Положим, что есть Дума, что там говорят и критикуют, и постановляют. Но ведь это так, все только так, для формы. Прежнее – все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же – строгий и покойный лик.
И снова – строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в «Праге» – думают надстроить новое святилище – выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником – за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют, и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого под танцем жизни?
И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате, смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий – над великой пустотой поднявшийся: танго.
И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы сладкий плен полуразврата-полукрасоты.
III
Страшный час, час грозный. Смертный час – призыв. Куда? Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце, и мила Москва, и горько – уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой, ненароком перекрестится – и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там – дорожка ниже, ниже, на Москва-реку к вокзалу – голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова – бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.
Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет – из-под полы, и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока – поблекли «Праги», «Метрополи», «Эрмитажи», и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов – знак кровавого креста над ними, знак печали-милости, – и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет – и все как было и как будет – тихий затон в буре страшной.
Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая – и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна мрака накопилась, облака и тучи, и гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.
Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет, и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит еще почтительно на две иконы, что под тротуаром, – святитель Николай, спасающий матроса и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.
Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, и вдруг бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генералов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.