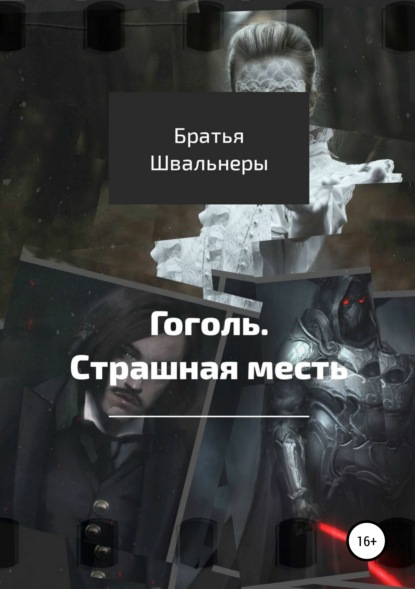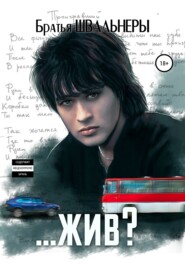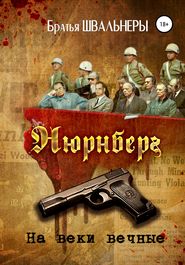По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гоголь. Страшная месть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тогда Языков воспринял слова Гоголя как бред воспаленного малярией мозга, но червь сомнения засел у него внутри окончательно и бесповоротно. Временами, когда болезнь подступала к нему и делала его дни просто невыносимыми, он готов был молиться всем чертям и дьяволам, которые только существовали в Дантовом аду. И легче ему становилось только, когда он общался с Гоголем или посещал литургии «Мучеников ада». И всякий раз звучали однажды сказанные его слова все более и более убедительно, и веры в них становилось у поэта все больше и больше. А однажды писатель привел ему слова своего друга Данилевского, который высказал предположение, что зло в лице призрака Лонгина будет жить на всей земле до тех пор, пока род Яновских не пресечется, и даже дети Гоголя станут нести его проклятие на многострадальных плечах своих. Он оговорился о том, что не хочет иметь детей именно по этой причине.
Перебирая в памяти слова Гоголя, Языков обмер. Его сестра стояла на пороге супружеской измены с человеком, чье дитя запросто могло оказаться исчадием ада. Конечно, логики в его словах не было, и не стоило им так уж слепо доверять, но и исключать вмешательства потусторонних сил было нельзя – очень уж странно звучала вся эта история с ритуальными жертвоприношениями в Полтавской губернии, где давно уже обычаи и предания уступили место свету ничуть не в меньшей степени, чем в Петербурге. И главное – странно звучали слова Данилевского, человека образованного, разумного и хорошо известного Языкову своей ученостью.
Сам же Данилевский в эту минуту зашел в гости к приятелю, с которым они месяц тому назад вернулись из Полтавы.
–Как ты? Вижу, совсем освоился в городе, от которого плевался по возвращении, – хлопал он дружески Гоголя по плечу. – Вижу тебя на балах, на светских приемах…
–Странно, отчего я тебя тогда там не вижу? – улыбаясь, спрашивал Гоголь.
–Ты, верно, забыл, что моя работа – видеть всех и вся там, где сам я должен оставаться в тени, – загадочно поднял палец к небу Данилевский.
–Это так. А что касается моих появлений в свете, то это вполне естественно, ведь я прожил здесь не один год. Конечно, родная Полтава не могла оставить меня равнодушным, но все же Петербург есть более мое место уже в силу проведенного здесь времени.
–Правильно. Нельзя вечно жить призраками прошлого…
Слово о призраках насторожило Гоголя, он заметно напрягся, но виду старался не подавать:
–Забывать тоже нельзя. Надлежит вынести уроки, сделать для себя выводы и жить дальше.
–Кстати, о призраках. Никаких известий из Полтавы давно не получал?
–Нет, а что?
–А я получил. Недавно и, к сожалению, неутешительные. Ритуальные убийства снова начались.
–И что? Что это означает? – срывающимся от волнения и надвигающегося страха голосом спросил Гоголь.
–Только то, что какому-то сумасшедшему взбрело в голову снова навести смуту в тех сирых местах. Ты же помнишь, насколько восприимчиво местное население ко всякого рода гадостям, хотя уже и переступило известный порог своего диалектического развития. Вот и решил кто-то…
–Нет, – отрезал Гоголь так необычайно громко, что рюмка коньяка непроизвольно выскользнула из рук Данилевского.
–Что – нет?
–Это всадник.
–Как? Снова всадник? Но ведь Иван Яновский давно в могиле! Мы сами видели, как всадник убил последнего представителя дьявольского рода, и вернулся восвояси!
–Не последнего. Ты тогда был прав – еще остался я, его прямой наследник, которому теперь надлежит нести на плечах проклятие рода Лонгина.
–Но… Яновский убивал, а ты нет…
–Убивал всегда всадник. Яновский был лишь инструментом в его руках. Я не стал таковым, но копье все еще в моих руках, а это значит, что всаднику еще долго бродить по этой земле.
–Только потому, что копье в твоих руках?
–Да.
–Ну тогда просто избавься от него! Возьми да выброси…
–Прости, предложение не ново.
–Слушай, я понимаю, что ты что-то скрываешь, тебе известно нечто такое, что мне не известно, да и не может быть известно. Но молчишь! Пойми, я не собираюсь заточать тебя в острог или заковывать в кандалы, ведь все эти наши с тобой… кхм… мистические бредни, как скажет мое начальство, к делу не пришьешь. Но я все равно отказываюсь верить в то, что тебе, человеку просвещенному и в высшей мере социальному, безразлична гибель людей. Я пришел к тебе не как к подследственному и не как к свидетелю, а как к человеку, в чьей власти остановить снова разбушевавшееся кровавое безумие…
–Ты прав, – тяжело выдохнул Гоголь. – Скажи, как ты думаешь, поему всадник убил Яновского, когда мы разоблачили его?
–Ну не знаю, – пожал плечами Александр Семенович. – Надо полагать, потому что он был последним из проклятых, выполнил свою миссию, и стал ему больше не нужен.
–Начало правильное, а вот конец… Он действительно стал ему больше не нужен. Но только потому, что дальше его бы ждали тюрьма и каторга, и он нипочем не смог бы выполнять те задания, что всадник ему посылал. Но, не будь у него преемника, Вий бы никогда не поднял на него руки. Ему проще тогда было убить нас, но он этого не сделал. Почему? Потому что преемник у него был и есть, и Вий видел его своими незрячими глазами.
–И кто он?
–Он перед тобой. И он будет убивать, то и дело возлагая на меня ответственность за это.
–И как это остановить?
–Боюсь, что это будет сложно. Сложно будет прервать цепь кровавых преступлений, которые, как ты помнишь со слов Евтуха, Вакулы и прочих обитателей Диканьки, продолжались там все это время без перерыва. Но ее течение можно приостановить. Если у меня будет наследник, то я перестану ему быть нужным. Он сможет отпустить меня, особенно, если этому будут способствовать какие-либо сложные для него и для меня обстоятельства. И тогда ему придется ждать, когда новый носитель копья повзрослеет и поймет свое истинное предназначение.
–Если я тебя правильно понял, ты говоришь мне, что должен умереть, но перед этим оставить наследника, чтобы сатанинская цепочка прервалась?
–Именно так. Одно напрямую связано с другим.
Данилевский задумался:
–Скажи, тебя на такие мысли навели сугубо логические рассуждения? Или твое знание связано с чем-то большим?
Гоголь отвел глаза – как и всегда, его пытливый в силу врожденной любознательности и должности собеседник был прав. Потому он решил быть с ним откровенным до конца. Откровенность я тем же Языковым, еще одним свидетелем всадника, была практически невозможна, хотя, в отличие от Данилевского, он был поэтом, и должен был иметь куда более восприимчивое и развитое воображение. Данилевский же доверял писателю в силу давних с ним отношений…
–От тебя сложно что-то скрыть. Всадник явился ко мне и говорил со мной.
–Он?! Говорил?! Но ведь такого никогда не бывало!
–Верно. Он говорил посредством Александры. Я видел ее во сне, и она сообщила мне все это.
Данилевский отставил рюмку. Вопросы, с которыми он сегодня пришел к старому другу, были отвечены, но вместо них появились куда более сложные и серьезные, ответы на которые никак не могли порадовать следователя Третьего отделения.
–Однако, насколько я понимаю, для рождения наследника еще нужна мать? Кто же она такая?
–Она есть.
Глава третья. Cherchezlafemme
Дивный вишневый сад в предместье дома Виельгорских распускался каждую весну, несмотря на петербургскую непогоду. Он был украшением дома, и все домашние обожали проводить здесь много времени – тем больше, чем ближе чувствовалось наступление лета и удивительных теплых дней, что будут посланы свыше хоть и в небольшом количестве, а все же порадуют и хозяев этого славного чертога, и его многочисленных гостей, что короткими ночами и долгими вечерами будут собираться на здешних балах и суаре, чтобы приобщиться к прекрасному. Да, в доме Виельгорского, страстного почитателя и знатока хорошей музыки, живописи и архитектуры, этого прекрасного было столько, что хватило бы для успокоения самой измученной души. И главным достоинством дома была его прекрасная во всех смыслах половина.
Младшая дочь хозяина дома, известного в столице музыковеда, критика и композитора Михаила Юрьевича Виельгорского, Анна Михайловна, была девушкой удивительной красоты. По отцу полячка – а полячки, как известно, самые красивые девушки на земле, – а по матери немка, среди которых хоть и нет особенных красавиц, но есть правильный склад и идеальные пропорции лица, чего так не хватает русским женщинам; она словно сошла с полотна Рембрандта или Леонардо. Вдобавок ко всему, правильное, интеллигентное воспитание, данное ей родителями, с отцовской стороны которых были настоящие польские дворяне, а с материнской – кровь немецкого временщика Бирона, фаворита самой Анны Иоанновны, делало Анну Михайловну практически идеальной во всех отношениях. С одной стороны, она знала, где и что сказать, а где лучше бы промолчать, с другой – даже молчание ее не портило, а только скрашивало тот удивительный портрет, что рождался в мозгу каждого, кто хоть раз видел эту абсолютно идеальную фемину. Родители не могли нарадоваться при созерцании такого природного совершенства, что послано им было по большой любви, но комплиментами старались ее не баловать, веря, что лучшее – враг хорошего. Что ей положено знать о себе, рассуждали они, то и без их слов станет ей известно. Хотя, кажется, Анна Михайловна знала больше положенного не только о себе, но и об окружающих. И иногда это знание, которое обычно не свойственно девушкам высшего света, затрудняло ее жизнь и заставляло задавать неудобные вопросы.
Она обожала гулять в саду. Редкие минуты, что эта образованная и культурная девушка не проводила за чтением романов и нравоучительных книг, за вышиванием или домашними делами, проводила она в вишневом саду, который вот-вот покроется белыми огоньками листьев. А пока об их приближении свидетельствует тот удивительный аромат, что исходит от деревьев и как будто свидетельствует о приближающемся обновлении всей природы, даже в этом грязном и ледяном городе, страшной волей царя Петра сделанном столицей России. Воспоминания о Петре невольно вернули развитое сознание девицы к его наследнице – Анне Иоанновне…
Ее мать, Луиза Бирон, супруга Михаила Виельгорского, смотрела из окна за тем, как дочь, явно погруженная в какие-то глубокие раздумья, отрешенная бродит по саду. Она решила выйти навстречу дочери, чтобы осведомиться о состоянии ее здоровья – весна пришла еще не окончательно, а Анна была на улице уже свыше двух часов, потому Луиза обеспокоилась, как бы невские ветра не прохватили юного девичьего организма. Мать знала, что дочь ждет возвращения брата, Иосифа, посланного ею, чтобы уговорить давнего поклонника – писателя Гоголя– прийти к ним на обед. Луиза не была сторонницей очень уж близких отношений дочери с писателем, чье имя было окружено странными и подчас недобрыми слухами, но и мешать им также не решалась. Она полагалась на волю Господа, который способен развести изначально чуждых друг другу людей, да и не особенно верила в юношеские страсти, которые имеют обыкновение утихать с течением времени.