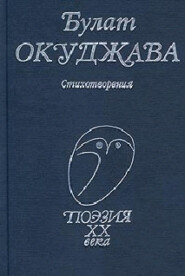По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дай редисочки, Шонгин, – просит Сашка.
– Последняя, – говорит Шонгин.
Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что… Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету…
А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.
– Шонгин, дай редисочки, – прошу я.
– Последняя, – говорит Шонгин.
Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:
– Вот и Ниночка…
Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка ушанка… ах! Какая у нее ушанка!.. Она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.
– А-а-а! – это Шонгин кричит. – А-а-а! – и падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.
– Ложись!
Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.
Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:
– Хватит валяться, ежики.
Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.
Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.
Война
Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей – шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира – беги, исполняй, оглушительно рявкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины – зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом – выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья – рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза…
Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать…
Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша… Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня – дощечка.
А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.
А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:
– Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.
Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.
Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.
Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:
– Ты что это раскурился?
– А что?
– Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, – говорит он и оглядывается.
Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.
– Говорил… твою мать! – кричит он.
Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе… А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу… Я виноват… Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.
И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:
– Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!
Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:
– Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!
Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом… Впрочем, я все выдумываю… По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.
А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.
– Отбой! – кричит Гургенидзе.
Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.
– Товарищ лейтенант…
Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.
– Я виноват. Я совсем не подумал об этом… Делайте со мной, что хотите…
– А что я должен с тобой делать? – задумчиво спрашивает он. – Ты что, натворил что-нибудь?
Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:
– Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.
Я иду.
– Смотри не засни. Замерзнешь, – говорит вслед лейтенант.
Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадалься! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук.
И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП – это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!
– Последняя, – говорит Шонгин.
Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что… Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету…
А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.
– Шонгин, дай редисочки, – прошу я.
– Последняя, – говорит Шонгин.
Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:
– Вот и Ниночка…
Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка ушанка… ах! Какая у нее ушанка!.. Она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.
– А-а-а! – это Шонгин кричит. – А-а-а! – и падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.
– Ложись!
Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.
Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:
– Хватит валяться, ежики.
Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издалека, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.
Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.
Война
Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей – шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира – беги, исполняй, оглушительно рявкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины – зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом – выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья – рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза…
Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать…
Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша… Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня – дощечка.
А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.
А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:
– Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.
Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.
Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.
Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:
– Ты что это раскурился?
– А что?
– Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, – говорит он и оглядывается.
Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.
– Говорил… твою мать! – кричит он.
Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе… А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу… Я виноват… Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.
И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:
– Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!
Охает первый миномет. Сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:
– Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!
Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом… Впрочем, я все выдумываю… По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.
А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.
– Отбой! – кричит Гургенидзе.
Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.
– Товарищ лейтенант…
Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.
– Я виноват. Я совсем не подумал об этом… Делайте со мной, что хотите…
– А что я должен с тобой делать? – задумчиво спрашивает он. – Ты что, натворил что-нибудь?
Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:
– Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.
Я иду.
– Смотри не засни. Замерзнешь, – говорит вслед лейтенант.
Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадалься! Не попадалься!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук.
И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП – это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!