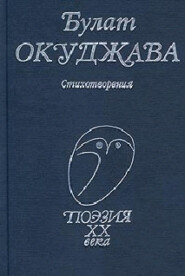По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.
– Все, – сказал лейтенант Бураков, – прибыли.
– Что это? – спросили его.
– Это передовая.
Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.
– А где немцы? – спросил кто-то.
– Немцы там.
«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.
И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.
Нина
– А ты красивый, – говорит Сашка Золотарев.
Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.
Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.
– Привет, – сказала она.
А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей.
– Как жизнь? – спросила она.
– Идет, – сказал я мрачно.
– А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?
Я достал папиросы.
– Ого, – сказала она, – папиросы.
– Тебе что, делать нечего? – спросил я.
– Давай покурим, – сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.
Мы курили и молчали. Потом она сказала:
– А ты совсем еще малявка, да?
– Что это значит?
– Это рыбка, которая только из икры.
Я полез в землянку, а она смеялась вслед.
– Приходила Нинка? – спросил потом Коля Гринченко.
– Да. А ты ее знаешь?
– Я всех знаю, – сказал он.
Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.
Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки…
– А ты красивый, – говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.
Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.
Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка…» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.
– А почему никого из начальства нет? – спрашиваю я.
– Совещаются, – говорит Сашка.
Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!
Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:
– Старшина – гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает, – и смотрит на нас с Сашкой.
– Не шуми, – говорит Сашка.
– Это ему не тыл, – не унимается Коля, – здесь ведь разговор короткий. В затылок – и привет. И не узнают.
– Пойди скажи ему об этом, – говорит Сашка. А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.
– Понятно, – говорит он.
Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчит. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.
– Глазунья хороша с луком, – говорит Сашка.
Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.
Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.
– Откуда редиска?!
Шонгин пожимает плечами.
– Все, – сказал лейтенант Бураков, – прибыли.
– Что это? – спросили его.
– Это передовая.
Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.
– А где немцы? – спросил кто-то.
– Немцы там.
«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.
И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.
Нина
– А ты красивый, – говорит Сашка Золотарев.
Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.
Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.
– Привет, – сказала она.
А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей.
– Как жизнь? – спросила она.
– Идет, – сказал я мрачно.
– А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?
Я достал папиросы.
– Ого, – сказала она, – папиросы.
– Тебе что, делать нечего? – спросил я.
– Давай покурим, – сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.
Мы курили и молчали. Потом она сказала:
– А ты совсем еще малявка, да?
– Что это значит?
– Это рыбка, которая только из икры.
Я полез в землянку, а она смеялась вслед.
– Приходила Нинка? – спросил потом Коля Гринченко.
– Да. А ты ее знаешь?
– Я всех знаю, – сказал он.
Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.
Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки…
– А ты красивый, – говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.
Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.
Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка…» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.
– А почему никого из начальства нет? – спрашиваю я.
– Совещаются, – говорит Сашка.
Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!
Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:
– Старшина – гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает, – и смотрит на нас с Сашкой.
– Не шуми, – говорит Сашка.
– Это ему не тыл, – не унимается Коля, – здесь ведь разговор короткий. В затылок – и привет. И не узнают.
– Пойди скажи ему об этом, – говорит Сашка. А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.
– Понятно, – говорит он.
Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчит. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.
– Глазунья хороша с луком, – говорит Сашка.
Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.
Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.
– Откуда редиска?!
Шонгин пожимает плечами.