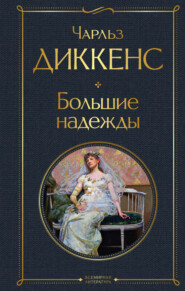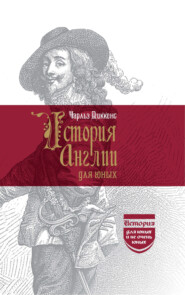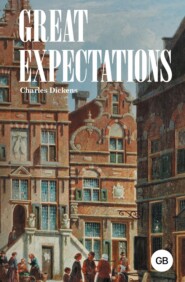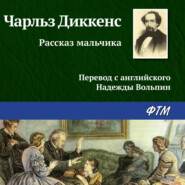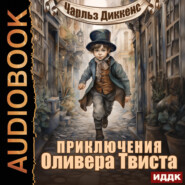По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Американские заметки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Американские заметки
Чарльз Диккенс
Чарльз Диккенс
АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ
Предисловие
Мои читатели имеют возможность сами разобраться, действительно ли существовали в Америке те влияния и тенденции, которые заставили меня насторожиться, или это только плод моего воображения. Они могут сами установить, проявлялись ли с тех пор эти влияния и тенденции в общественной жизни Америки как внутри страны, так и за границей. А выяснив это, они смогут меня судить. Если они обнаружат какие-либо факты, свидетельствующие о том, что хотя бы в одном из указанных мной отношений Америка отклонилась от правильного пути, значит я имел основания писать то, что я написал. Если же они таких фактов не обнаружат, – значит, я ошибся, но без всякого умысла.
Никакого предвзятого мнения у меня нет и никогда не было, – а если оно и было, то в пользу Соединенных Штатов. У меня в Америке много друзей, я с приязнью и интересом отношусь к этой стране и верю и надеюсь, что она успешно решит проблему, имеющую величайшее значение для всего человечества. Выставлять меня человеком, относящимся к Америке злобно, холодно или враждебно, – просто глупо, а сделать глупость – всегда легко.
Глава I
Отъезд
Я никогда не забуду того изумления, на четверть тревожного и на три четверти веселого, с каким я утром третьего января тысяча восемьсот сорок второго года приоткрыл дверь спальной каюты на борту пакетбота «Британия», водоизмещением в тысячу двести тонн, направлявшегося в Галифакс и Бостон с грузом почты ее величества[1 - …с грузом почты ее величества… – т.е. с грузом Министерства почт Великобритании. По исторически сложившейся традиции названия английских государственных учреждений и должностных лиц всегда сопровождаются словами «его (или ее) величества».].
Что каюта отведена специально для «Чарльза Диккенса, эсквайра[2 - …Чарльза Диккенса, эсквайра… – В середине века эсквайрами называли оруженосцев рыцарей. Со временем слово изменило свое значение, и так стали именовать людей, не имеющих дворянского звания, но привилегированных по своему общественному положению, как то: чиновников, адвокатов, врачей, писателей и просто зажиточных буржуа. В настоящее время слово «эсквайр» почти вышло из употребления.], с супругой», было достаточно ясно даже для моего потрясенного рассудка, поскольку об этом извещала крохотная записка, приколотая к очень тонкому ватному одеялу, покрывавшему очень тощий матрац, который лежал, подобно слою хирургического гипса, на совершенно недосягаемой полке. Но что именно это и есть та каюта, по поводу которой Чарльз Диккенс, эсквайр, с супругой совещались день и ночь добрых четыре месяца; что таковою могла оказаться та маленькая уютная комнатка, которую Чарльз Диккенс, эсквайр, рисовал себе в мечтах и, окрыленный пророческим вдохновением, предсказывал, что в ней будет стоять по крайней мере одна кушетка, – а его супруга, придерживаясь более скромного, но все же преувеличенного мнения о ее размерах, с самого начала усомнилась, удастся ли поместить в каком-нибудь уголке более двух огромных сундуков (сундуки эти было бы так же невозможно не только поставить, но хотя бы протащить сейчас в каюту, как невозможно убедить или заставить жирафа влезть в цветочный горшок); что эта крайне неудобная, безнадежно унылая и абсолютно нелепая коробка имеет хотя бы отдаленное отношение или касательство к изящным, красивым, я уж не говорю, роскошным маленьким будуарам, мастерски изображенным на яркой цветной литографии, висевшей в конторе агентства в Лондоне; словом, что эта каюта может быть чем-то иным, кроме веселой мистификации, забавной шутки капитана, задуманной и осуществленной для того, чтобы пассажир испытал побольше удовольствия и наслаждения при виде настоящей спальной каюты, – все эти истины я в ту минуту, сколько ни старался, право, не мог ни воспринять, ни постичь. И я сел на нечто вроде насеста или валика из конского волоса, – каковых в каюте было два, – и бессмысленно посмотрел на своих друзей, которые вместе с нами взошли на борт пакетбота и теперь строили самые невероятные гримасы, пытаясь просунуть голову в крошечную дверцу.
Перед тем как спуститься в каюту, мы уже пережили изрядное потрясение, которое, не будь мы величайшими оптимистами, могло бы подготовить нас к самому худшему. Художник с пылкой фантазией, о котором я уже упоминал, изобразил в том же великом произведении залу почти беспредельной глубины, обставленную, как сказал бы мистер Робинс, со сверхвосточным великолепием[3 - …обставленную, как сказал бы мистер Робинс, со сверх восточным великолепием… – Мистер Робинс – известный в Лондоне 40—50-х годов аукционист, выпускавший каталоги с рекламным описанием продававшихся вещей.], где толпились (но не теснились) веселые и оживленные леди и джентльмены. Собираясь спуститься в чрево судна, мы прошли с палубы в длинное узкое помещение, напоминающее гигантский катафалк с окнами по сторонам; в дальнем конце его виднелась унылая печь, у которой грели руки три иди четыре продрогших стюарда, а во всю его безотрадную длину вдоль обеих стен стояли длинные-предлинные столы и над каждым из них – привинченная к низкому потолку полка с гнездами для стаканов и судков, что наводило на мрачные мысли о бушующем море и штормовой погоде. В то время я еще не успел познакомиться с идеальным иэображением этой комнаты, доставившим мне впоследствии столько удовольствия, но я заметил, как один из наших друзей, помогавший нам готовиться к путешествию, войдя в нее, побледнел, затем, попятившись, наступил на ногу тому, кто стоял позади, и, невольно хлопнув себя по лбу пробормотал: «Непостижимо! Не может быть!» – или что-то в этом роде. Однако, сделав страшное усилие, он взял себя в руки, кашлянул разок-другой и громко произнес, озираясь по сторонам с застывшей улыбкой, которую я до сих пор не могу забыть: «Скажите, стюард, это, верно, комната, где у вас завтракают?» Мы все представили, каков будет ответ; нам были понятны его мучения. Он часто говорил о кают-компании, поверил той картине в лондонском агентстве и ею питал свою фантазию. Чтобы составить себе правильное представление об этой зале, – обычно пояснял он нам еще дома, нужно в семь раз увеличить размеры обыкновенной гостиной и количество стоящей в ней мебели, и того будет мало. И вот теперь, когда стюард в ответ изрек истину грубую, беспощадную, голую истину: «Это кают-компания, сэр», мой друг буквально зашатался от такого удара.
Когда людям предстоит вот-вот расстаться с теми, кого они привыкли встречать ежедневно, когда их вскоре должен разделить барьер в виде многих тысяч миль бурного водного пространства и поэтому хочется, чтобы ни одно облачко, ни одна мимолетная тень минутного разочарования или смущения не омрачали тех счастливых минут, что еще осталось провести вместе, – в таких обстоятельствах, естественно, на смену первому удивлению приходит веселый смех. Могу сообщить, что я в частности, сидя на вышеупомянутом валике, или насесте, разразился неистовым хохотом и хохотал до того, что судно заходило ходуном. Таким образом, не прошло и двух минут после нашего первого знакомства с каютой, как все мы согласились на том, что она – самое приятное, самое прелестное и самое удобное помещение, какое только можно придумать, и было бы весьма неприятно и прискорбно, если бы она оказалась хоть на дюйм больше. После чего, продемонстрировав, каким образом можно разместиться в ней четверым, – если дверь прикрыть и проползать в нее, извиваясь как змея, и если маленькую нишу с умывальником считать площадью для одного из присутствующих, – мы стали убеждать друг друга обратить внимание на то, какой тут свежий воздух (во время стоянки), и какой чудесный иллюминатор, который можно целый день держать открытым (если позволяет погода), и какой большой фонарь висит как раз над зеркалом, благодаря чему бритье будет самой легкой и приятной процедурой (когда не слишком качает), и пришли, наконец, к единодушному выводу, что каюта не только не мала, а даже просторна. Однако я глубоко убежден, что если не считать двух коек, – расположенных одна над другой и таких узких, что, пожалуй, только в гробу спать еще теснее, – каюта была не больше одного из тех наемных кабриолетов с дверцей позади, из которых седоки вываливаются на мостовую, словно мешки с углем.
Разрешив этот вопрос к полному удовлетворению всех заинтересованных и незаинтересованных сторон, мы уселись вокруг огня в дамской каюте, – просто чтобы посмотреть, как это получится. Было, правда, довольно темно, но кто-то сказал: «В открытом море, конечно, будет светлее», с чем мы все согласились, повторяя: «Конечно, конечно», хотя весьма трудно сказать, почему мы так думали. Обнаружив и всесторонне обсудив еще одно утешительное обстоятельство, а именно: что дамская каюта примыкает к нашей, благодаря чему у нас есть полная возможность располагать этой каютой в любой час дня и при любой погоде, – мы, помнится, с минуту сидели молча, подперев подбородки руками и глядя в огонь, и тогда один из нас сказал с торжественным видом человека, сделавшего открытие: «А как вкусен будет здесь глинтвейн из кларета!» Это открытие чрезвычайно поразило нас, как будто в воздухе кают есть нечто пикантное и изысканно благоуханное, что существенно улучшает этот напиток и исключает всякую возможность довести его до того же совершенства в любом другом месте.
Тут же вертелась стюардесса, которая с большим рвением извлекала чистые простыни и скатерти из недр диванов я из самых неожиданных вместилищ такого хитроумного устройства, что голова кружилась, когда они раскрывались одно за другим. Следить за ее движениями было истинным развлечением: выяснилось, что каждый уголок и закоулок, каждый предмет обстановки был в действительности совсем не тем, чем казался на первый взгляд, а представлял собой ловушку, скрытый фокус или тайник и что использовать ту или иную вещь по ее прямому назначению было бы самым неразумным на свете.
Да благословит бог эту стюардессу за благонамеренное жульничество, каким явился ее рассказ о плавании в январе! Да благословит ее бог за то, с какою ясностью она припомнила все подробности прошлогоднего путешествия, когда никто не болел, и все танцевали с утра до вечера, и весь «переход» длился всего двенадцать дней веселая, чудесная поездка, чистое удовольствие! Дай ей бог счастья за ее светлую улыбку и приятный шотландский выговор, который напоминал моей спутнице милые родные края[4 - …напоминал моей спутнице милые родные края. – Семья жены Диккенса, урожденной Хогарт, происходила из Шотландии.]; и за предсказания попутного ветра и тихой погоды (ни одно из них не сбылось, – но тем милее она мне сейчас), а также те бесчисленные проявления подлинно женского такта, благодаря которому без особо хитроумных уверток и уж слишком искусных, шитых белыми нитками построений – ей со всею ясностью удалось доказать, что молодым матерям, находящимся по одну сторону Атлантического океана, рукой подать до своих детишек, оставшихся по другую его сторону, а то, что непосвященному кажется далеким путешествием, для посвященных – всего лишь пустая забава. Пусть долгие годы будет легко на душе у этой девушки, и пусть ничто не омрачает ее веселого взора!
Каюта ширилась и росла у нас на глазах, а к этому времени она превратилась в нечто и вовсе грандиозное, и иллюминатор казался чуть ли не окном-фонарем, выходившим на морской простор. Итак, мы снова поднялись на палубу в наилучшем расположении духа, а там шла такая кипучая подготовка к отплытию, что поневоле становилось весело на душе и кровь бурлила и быстрее бежала по жилам в это ясное морозное утро. Вокруг величавые суда медленно покачивались на волнах, и маленькие катера с шумом плескались в воде, а на пристани стояли толпы народа, которые «в трепетном восхищении» взирали на знаменитый быстроходный американский корабль. Несколько человек «принимали на борт молоко», или, иначе говоря, загоняли на пароход корову; другие – доверху набивали ледники свежей провизией: мясом и зеленью, бледными тушками молочных поросят, десятками телячьих голов, говядиной, телятиной, свининой и несметным количеством дичи; третьи – сматывали канаты и возились с конопатью; четвертые – спускали в трюм тяжелые грузы, а за огромной грудой пассажирского багажа едва виднелась голова эконома, взиравшего на все с видом полнейшей растерянности; и казалось, нигде, а главное – ни в чьих мыслях нет места ничему, кроме приготовлений к этому внушительному путешествию. Все было неотразимо прекрасно: и яркое холодное солнце, и бодрящий воздух, и подернутая рябью вода, и на палубе тонкая белая корочка утреннего ледка, который ломается с резким и веселым хрустом, едва на него ступишь. Когда же мы снова очутились на берегу и, обернувшись, увидели на мачте веселые яркие флажки, обозначавшие название судна, а рядом с ними полоскавшийся на ветру красивый американский флаг с полосами и звездами, нам вдруг показалось, будто все это и огромное расстояние в три с лишним тысячи миль, и долгие шесть месяцев отсутствия – уже промелькнуло и растаяло в тумане прошлого; будто судно отплыло в Америку и снова вернулось обратно, и уже наступила весна, и мы только что прибыли в Кобургский док в Ливерпуле.
Я не справлялся у своих знакомых врачей, действительно ли переезд по морю легче переносится, если питаться черепашьим супом и холодным пуншем из белого рейнвейна, шампанского и кларета, а также всяческими легкими закусками, обычно в неограниченных количествах входящими в меню хорошего обеда, – в особенности если оно полностью предоставлено на усмотрение моего непогрешимого друга, мистера Редли из отеля «Аделфи»[5 - …моего непогрешимого друга мистера Редли из отеля «Аделфи». – Мистер Редли – владелец первоклассного ливерпульского отеля, в котором Диккенс имел обыкновение останавливаться.]. Или, может быть, напротив – кусок простой баранины да стаканчик-другой хереса были бы менее способны превратиться в инородное вещество, вызывающее неприятное ощущение? Мне лично кажется: будет ли человек умерен иди невоздержан накануне отплытия – это не имеет существенного значения, ибо, как говорится: «Конец всегда один и тот же». Но как бы там ни было, я знаю, что обед в тот день был несомненно превосходный и состоял он из всех перечисленных выше блюд и множества других, которым мы отдали должное. И мы благополучно перенесли испытание и даже были веселы, насколько могли, но только, как бы по молчаливому уговору, избегали каких-либо упоминаний о завтрашнем дне – как это бывает, вероятно, между сердобольными тюремщиками и слабонервным узником, которого на следующее утро должны повесить.
Когда же настало утро – то утро и мы встретились за завтраком, было прямо забавно наблюдать, как все старались поддержать разговор, чтобы он ни на минуту не прекращался, и как все были необыкновенно веселы. Вымученное остроумие каждого члена нашей маленькой компании не больше походило на его обычную веселость, чем запах оранжерейного горошка по пяти гиней за четверть – на разлитый в воздухе аромат цветущих лугов и на вспоенной дождем земли. Но по мере того как стрелка часов приближалась к часу пополудни, когда надлежало подняться на борт, – этот поток красноречия, несмотря на самые отчаянные усилия, стал мало-помалу иссякать, пока, наконец – поскольку стало ясно, что все попытки тщетны, – мы не отбросили всякое притворство и не начали вслух размышлять о том, где мы будем в этот час завтра, послезавтра и так далее. Мы вручили тем, кто намеревался вернуться в город в тот же вечер, множество всяких посланий, которые следовало непременно передать нашим родным и знакомым возможно скорее после прибытия поезда на вокзал Юстон-сквер[6 - Юстон сквер – площадь в Лондоне, на которую выходит первый в городе железнодорожный вокзал Лондонской Северо-западной дороги, выстроенной в 1838 году.]. В подобные минуты вспоминаешь всегда кучу важных дел и необходимых поручений, и мы все еще были заняты этим, как вдруг обнаружили, что уже крепко-накрепко впаяны в сплав, состоящий из пассажиров, друзей пассажиров и багажа пассажиров, и вместе с этим сплавом переместились на палубу маленького пароходика, который, конвульсивно вздрагивая и пыхтя, двинулся по направлению к пакетботу, вышедшему вчера днем из дока и стоявшему сейчас поодаль на якоре.
Вот он! Все взоры устремлены на пакетбот, очертания которого расплываются в сгущающемся тумане зимнего дня; все указывают рукой в одном направлении» и со всех сторон слышны удивленные и восторженные возгласы: «О, какой красивый!», «Какой нарядный!» Даже ленивый джентльмен в шляпе набекрень, который весьма успокоительно подействовал на многих, когда, засунув руки в карманы и позевывая, с небрежным видом спросил другого джентльмена, не едет ли и он «на ту сторону», точно речь шла о переправе через реку на пароме, – даже и этот джентльмен снисходительно бросает взгляд на пакетбот и кивает головой, как бы говоря: «Ну, тут дело чистое». Думается, сам премудрый лорд Бэрли[7 - Лорд Бэрли (1520—1598) – известный английский государственный деятель, был государственным казначеем в Эпоху королевы Елизаветы.] не кивал и вполовину так многозначительно, как этот всемогущий ленивый джентльмен, который (неизвестно откуда, но это уже знали все на борту) тринадцать раз пересек океан без единого неприятного происшествия! Есть тут и еще один пассажир, закутанным с головы до пят; при виде его остальные хмурятся, уничтожая его презрительными взглядами: говорят, он робко поинтересовался, давно ли пошел ко дну бедный «Президент». Он стоит рядом с ленивым джентльменом и со слабой улыбкой выражает надежду, что эта штука судно достаточно крепкое. И ленивый джентльмен, взглянув сначала вопрошающему в глаза, а затем пытливо посмотрев, каково направление ветра, неожиданно и зловеще отвечает, что, должно быть, так. После этого ленивый джентльмен сразу низко падает в глазах общества, и пассажиры, пренебрежительно поглядывая на него, нашептывают друг другу, что он осел и мошенник и явно ничего не смыслит в таких вещах.
Но вот мы подошли к самому пакетботу, огромная красная труба которого храбро дымит, многообещающе заверяя в его серьезных намерениях. Уже из рук в руки передают ящики, сундуки, саквояжи и картонки, и все это с головокружительной быстротой грузится на судно. С офицеры в нарядной форме стоят у трапа, помогая пассажирам взобраться на палубу и поторапливая матросов. Через пять минут маленький пароходик совсем опустел, а пакетбот был мгновенно битком набит живым грузом. В каждом уголке и закоулке – десятки пассажиров; они ползут внутрь судна со своим багажом, спотыкаясь по дороге о чужой; удобно располагаются не в тех каютах, где следует, и создают ужасающий переполох, когда приходится выбираться; с яростью дергают ручку запертой двери или пытаются пройти там, где нет прохода; засыпают невыполнимыми поручениями растрепанных очумелых стюардов, заставляя их бегать взад и вперед по палубам, где свищет ветер, – короче говоря, поднимают самую невообразимую суматоху. И среди этой суеты по штормовому мостику, хладнокровно попыхивая сигарой, прогуливается ленивый джентльмен, как видно, не обремененный ни багажом, ни даже провожающими; это независимое поведение снова возвышает его в глазах тех, у кого хватает времени наблюдать за ним, и всякий раз, как он бросает взгляд вверх, на мачты, или вниз, на палубу, или за борт, они смотрят туда же, как бы спрашивая себя, не заметил ли он там чего-либо подозрительного, и надеясь, что он не откажет в любезности сообщить им, если действительно что-нибудь не так.
Что это там? Капитанская шлюпка, а вот и сам капитан! Он как раз таков, каким мы надеялись его видеть! Ладно скроенный, плотно сбитый, подвижной человечек с румяным приветливым лицом, взглянув на которое так и хочется пожать ему сразу обе руки, и с ясными честными голубыми глазами, в которых приятно видеть собственное искрящееся отражение.
– Давайте сигнал!
«Динь-динь-динь» – даже колокол и тот торопится.
– На берег, – кому на берег?
– Джентльмены, прошу вас.
Они уже ушли и даже не попрощались. А теперь они машут руками и кричат с пароходика: «До свидания, до свидания!» Троекратные приветствия с катера, троекратные приветствия с нашего корабля; снова троекратные приветствия пароходика, – и они исчезли из виду.
Взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед сотни раз! Это ожидание последних мешков с почтой хуже всего. Если бы мы могли отплыть под приветственные возгласы провожающих, то поездка наша началась бы подобно триумфальному шествию, но стоять на якоре в течение двух часов и больше, затерявшись в мокром тумане, уже не находясь дома и еще не отплыв на чужбину, – тут волей-неволей погрузишься в пучину скуки и уныния. Но вот, наконец, – точка в тумане! Что-то движется. Да это тот самый катерок, которого мы ждем! Вот это кстати! На капитанском мостике показывается капитан с большим рупором; офицеры становятся по своим местам; матросы все наготове; гаснущие надежды пассажиров разгораются; коки прерывают свою аппетитную работу и с интересом выглядывают из дверей камбуза. Катерок подходит к пакетботу; на палубу кое-как втаскивают мешки с почтой и пока что бросают куда попало. Снова троекратные приветствия, и едва первый звук их достиг наших ушей, судно содрогнулось, подобно могучему великану, в которого только что вдохнули жизнь; два его огромных колеса с силой сделали первый оборот, и благородный корабль, подгоняемый ветром и течением, гордо двинулся, рассекая бурлящие и вспененные воды.
Глава II
В пути
В тот день мы обедали все вместе; и собралась нас компания немалая: человек восемьдесят шесть. Судно, приняв полный запас угля и большое количество пассажиров, изрядно осело, погода была безветренная, море спокойное, и качка ощущалась лишь слегка, так что уже к середине обеда даже те из пассажиров, кто был наименее уверен в себе, удивительно осмелели; те же, кто поутру на традиционный вопрос: «Вы хороший моряк?» давали категорически отрицательный ответ, теперь либо парировали вопрос уклончивым: «Полагаю, что я не хуже всякого другого», либо же, пренебрегая всякими принципами морали, смело ответствовали: «Да», причем делали это с некоторым раздражением, словно хотели добавить: «Желал бы я знать, сэр, что вы именно во мне увидели такого, что могло бы оправдать ваши подозрения?» Несмотря на этот бодрый тон, мужественный и уверенный, я не мог не заметить, что лишь очень немногие задержались после обеда за бокалом вина; все проявляли необычайное пристрастие к свежему воздуху, а излюбленными местами, которых больше всего домогались, неизменно были места поближе к двери. За чаем было далеко не так людно, как за обедом, а игроков в вист оказалось меньше, чем можно было ожидать. Все-таки, за исключением одной дамы, удалившейся с некоторой поспешностью из-за обеденного стола тотчас после того, как ей подали отменный кусок очень желтой отварной баранины с очень зелеными каперсами, никто пока не поддавался нездоровью. Расхаживание, и курение, и потягивание коньяка с водой (но всегда и только на открытом воздухе) продолжались с неослабным усердием часов до одиннадцати, когда пришло время «сойти в каюту», ни один мореход, имеющий за плечами семичасовой опыт, не скажет «пойти спать». Непрестанный стук каблуков по палубе сменился глубокой тишиной; весь человеческий груз был убран в нижние помещения, не считая очень немногих полуночников вроде меня, которым, вероятно, как и мне, было страшно туда спускаться.
На человека непривычного ночь на борту судна производит большое впечатление. Даже впоследствии, когда это впечатление потеряло свою новизну, оно еще долго сохраняло для меня особую прелесть и очарование. Мрак, сквозь который огромная черная глыба прямо и уверенно держит свой курс; отчетливо слышный плеск невидимых волн; широкий белый пенистый след, оставляемый судном; вахтенные на баке, только потому и различимые на фоне темного неба, что они заслоняют десяток-другой сверкающих звезд; рулевой у штурвала и перед ним развернутая карта – пятнышко света среди тьмы, словно нечто одухотворенное, наделенное божественным разумом; меланхолические вздохи ветра в блоках, канатах и цепях; свет, пробивающийся из каждой щели и скважины, сквозь каждое стеклышко надпалубных строений, как будто корабль наполнен скрытым огнем, готовым вырваться через любое отверстие во всем ужасающем неистовстве своей гибельной разрушительной силы. Кроме того, по началу – и даже позднее, когда привыкаешь и к ночи и к тому, что все предметы в ней приобретают какую-то особую торжественность, – трудно, оставаясь наедине со своими мыслями, воспринимать предметы такими, какими видишь их днем. Они изменяются по воле воображения; принимают образы вещей, оставленных где-то далеко; приобретают памятные очертания любимых, дорогих сердцу мест и даже населяют их призраками. Улицы, дома и комнаты, человеческие фигуры, настолько схожие с действительными, что они поражали меня своей реальностью, – я и не подозревал в себе такой способности видеть мысленным взором отсутствующих! – все это много, много раз внезапно возникало из предметов, чей настоящий облик, употребление и назначение я знал как свои пять пальцев.
Однако, поскольку в данном случае все мои пальцы на руках и на ногах очень озябли, я в полночь сполз вниз. Внизу было не слишком уютно. Воздух был довольно спертый, и невозможно было не заметить той необычайной смеси странных запахов, какая встречается только на борту судна и представляет собою столь острый аромат, что он, кажется, проникает во все поры кожи, напоминая вам о корабельном трюме. Две жены пассажиров (одна из них моя) уже лежали, в безмолвных муках, на диване, и горничная одной из жен (моей жены) валялась на полу, как узел тряпья, проклиная свою судьбу и тряся папильотками среди разбросанных чемоданов. Все куда-то скользило, причем в самых непредвиденных направлениях, и уже одно это создавало, неодолимые препятствия. Я только что оставил дверь открытой у подножия некоего склона; когда же я повернулся, чтобы закрыть ее, она оказалась где-то на вершине. Все планки и шпангоуты то скрипели, словно судно было сплетено из прутьев, как корзина, то трещали, будто огромный костер из самых сухих сучьев. Оставалось только одно – лечь в постель, что я и сделал.
Следующие два дня прошли примерно так же – с умеренно-свежим ветром и без дождя. Я много читал в постели (но и по сей день не знаю, что именно) и ненадолго выходил побродить по палубе; с невыразимым отвращением пил коньяк с холодной водой и упрямо грыз твердые галеты: я не был болен, но находился на грани болезни.
Настает третье утро. Меня пробуждает ото сна отчаянный крик моей жены, желающей знать, не грозит ли нам опасность. Я приподымаюсь и выглядываю из постели. Кувшин с водой ныряет и прыгает, как резвый дельфин; все небольшие предметы плавают, за исключением моих башмаков, севших на мель на саквояже, словно пара угольных барж. Внезапно они у меня на глазах подскакивают в воздух, а зеркало, прибитое к стене, прочно прилипает к потолку. В то же время дверь совсем исчезает и в полу открывается другая. Тогда я начинаю понимать, что каюта стоит вверх ногами.
Еще не успели вы сколько-нибудь приспособиться к этому новому положению вещей, как судно выпрямляется. Не успели вы молвить «слава богу», как оно снова накреняется. Не успели вы крикнуть, что оно накренилось, как вам уже кажется, что оно двинулось вперед, что это – живое существо с трясущимися коленями и подкашивающимися ногами, которое несется по собственной прихоти, непрестанно спотыкаясь, по всевозможным колдобинам и ухабам. Не успели вы удивиться, как оно подпрыгивает высоко в воздух, еще не завершив прыжка, – уже ныряет глубоко в воду. Еще не выбравшись на поверхность, – выкидывает курбет. Едва успев снова встать на ноги, – стремительно бросается назад. И так оно движется – шатаясь, вздымаясь, опускаясь, борясь, прыгая, ныряя, подскакивая, подрагивая, переваливаясь и покачиваясь, и проделывая все эти движение иногда по очереди, а иногда одновременно, пока вы не начинаете чувствовать, что готовы взреветь о пощаде. Проходит стюард.
– Стюард!
– Сэр?
– Что тут творится? Как это по-вашему называется?
– Довольно сильное волнение, сэр, и лобовой ветер.
Лобовой ветер! Представьте себе носовую часть корабля в виде человеческого лица и вообразите некоего Самсона, могучего, как пятнадцать тысяч Самсонов, который стремится отбросить корабль назад и наносит ему удары прямо в переносицу, лишь только тот пробует продвинуться хотя бы на дюйм. Вообразите самый корабль: все вены и артерии его громадного тела вздулись и готовы лопнуть под жестоким напором противника, но он поклялся пройти или погибнуть. Вообразите вой ветра, рев моря, потоки дождя, неистовство стихий, восставших против него. Вообразите небо, темное и бурное, и облака, в диком единодушии с волнами образующие другой океан в воздухе. Добавьте ко всему этому грохот на палубе и под ней; поспешный топот; громкие хриплые голоса моряков; клокотанье воды, бьющей из шпигатов и в шпигаты; и время от времени – тяжелый удар волны о палубный настил над вашей головой, точно мертвенный, глухой, тяжкий отголосок громового раската в склепе, – и вы получите впечатление о лобовом ветре в то январское утро.
Я умалчиваю о том, что можно назвать местными шумами на судне: о звоне разбивающегося стекла и фаянса, о беготне стюардов по трапу, веселых прыжках по палубе оторвавшихся бочонков и нескольких дюжин беглых бутылок портера; и о весьма любопытных, но отнюдь не веселящих душу звуках, издаваемых в различных каютах семьюдесятью пассажирами, слишком немощными, чтобы подняться к завтраку. О них я умалчиваю: хоть я и слышал этот концерт три или четыре дня кряду, но слушать его мог лишь каких-нибудь четверть минуты, после чего, почувствовав сильный приступ морской болезни, снова укладывался в постель.
Впрочем, речь идет не о морской болезни в обычном смысле слова – это бы еще полбеды. То была особая форма, о какой я ранее никогда не слыхал и не читал, хотя не сомневаюсь, что она довольно распространена. Весь день я лежал, безучастный и апатичный, не испытывая ни усталости, ни желания подняться, почувствовать себя лучше или выйти на воздух; не испытывая ни малейшего любопытства, ни забот, ни сожалений; и помнится, в этом полном безразличии я ощущал лишь некую ленивую радость, какое-то злорадное наслаждение, если при такой сонной апатии вообще можно чем-либо наслаждаться, – от того, что жена моя была чересчур больна, чтобы говорить со мной. Если мне дозволят воспользоваться таким примером, дабы обрисовать мое душевное состояние, то я сказал бы, что чувствовал себя в точности так, как мистер Уиллет-старший после того, как погромщики посетили его пивную в Чигуэлле[8 - …чувствовал себя в точности так, как мистер Уиллет-старший после того, как погромщики посетили его пивную в Чигуэлле. – Диккенс вспоминает эпизод из своего романа «Барнеби Радж» (1841). Чигуэлл-предместье Лондона.]. Ничто не могло бы меня удивить. Если бы в минуту просветления, озарившего меня в виде мыслей о родине, в мою крошечную конурку средь бела дня явилось привидение – самое настоящее привидение в образе почтальона в алом кафтане и с колокольчиком, – попросило бы извинения за то, что, пройдясь по морю, намотало ноги, и вручило мне письмо, надписанное знакомым почерком на конверте, я уверен, что и тут не удивился бы. Я принял бы это как должное. Да если бы в каюту вошел сам Нептун с жареной акулой на трезубце, я бы отнесся к этому как к одному из самых обычных повседневных происшествий.
Однажды… однажды я оказался на палубе. Не знаю, как я туда попал и что меня туда погнало, но, так или иначе, я оказался там, причем совершенно одетый, в огромной матросской куртке из грубого сукна и в таких сапогах, которые слабый человек, находясь в здравом уме, ни за что не сумел бы натянуть на ноги. Когда сознание мое на миг прояснилось, я обнаружил, что стою, держась за что-то. Только не знаю, за что. Кажется, это был боцман, а может быть, насос. Или, возможно, корова. Не могу сказать, как долго я там находился – целый день или одну минуту. Припоминаю, что я пытался о чем-нибудь думать (о чем именно мне было все равно), но безуспешно. Я не мог даже разобрать, где море, а где небо, так как горизонт у меня перед глазами плясал словно с перепою. Несмотря на свое беспомощное состояние, я все же узнал ленивого джентльмена, который стоял передо мной; на нем был синий костюм моряка, на голове – клеенчатая зюйдвестка. Но в тот момент я настолько плохо соображал, что хотя и узнал его, однако не мог отделаться от впечатления, которое произвела на меня его морская одежда, и, помнится, упорно называл его «лоцманом». После этого я снова на некоторое время впал в беспамятство, а когда очнулся, обнаружил, что он исчез и на его месте стоит кто-то другой. Эта новая фигура дрожала и расплывалась перед моими глазами, словно отражение в кривом зеркале, но я узнал в ней капитана; и так ободряюще действовал на всякого самый его вид, что я попытался улыбнуться, – да, даже тут попытался улыбнуться. По его жестам я видел, что он обращается ко мне: он корил меня за то, что я стою по колено в воде (как это случилось – право, не знаю), но прошло немало времени, прежде чем я уразумел смысл его жестикуляции. Я хотел поблагодарить его, но из этого ничего не вышло. Я сумел лишь указать на свои сапоги – или на то место где, по моим предположениям, они должны были находиться, – и выговорить жалобным голосом: «Подметки пробковые»; при этом, как мне потом рассказывали, я попытался сесть в воду. Видя, что я невменяем и внушать мне что-либо бесполезно, он великодушно отвел меня вниз.
Там я и оставался до тех пор, пока не почувствовал себя лучше. Всякий раз, как меня уговаривали что-нибудь съесть, я переживал такие муки, которые можно сравнить лишь с муками утопленника, возвращаемого к жизни. Один джентльмен, находившийся на борту нашего судна, имел ко мне рекомендательное письмо от нашего общего друга из Лондона. В то утро, когда подул лобовой ветер, этот джентльмен послал мне письмо вместе со своей визитной карточкой, и я долго страдал при мысли о том, что он, вероятно, вполне здоров и по сто раз в день ожидает моего появления в кают-компании. Мне он представлялся одною из тех словно литых фигур, которые, надувая красные щеки, зычным голосом спрашивают, что за штука морская болезнь и действительно ли она так неприятна, как говорят. Эта мысль поистине терзала меня, и, кажется, никогда я не испытывал такого чувства беспредельной благодарности и величайшего удовлетворения, как в ту минуту, когда услышал от судового врача, что он только что поставил упомянутому джентльмену большой горчичник на живот. Я считаю, что мое выздоровление началось с того момента, как я получил это известие.
Впрочем, моему выздоровлению в значительной мере помог еще и штормовой ветер, который поднялся как-то на закате, когда мы уже дней десять были в море, и, все набирая силу, дул до самого утра; он утих всего на какой-нибудь час незадолго до полуночи. Но в неестественном спокойствии воздуха в этот час и в последующем нарастании шторма было что-то столь грозное и непостижимо зловещее, что я почти почувствовал облегчение, когда он разразился с полной силой.
Никогда не забуду я, с каким трудом пробирался корабль в ту ночь по бурному морю. «Неужели может быть еще хуже?» – Я часто слышал этот вопрос, когда все кругом куда-то скользило и подскакивало и когда казалось просто невероятным чтобы что-либо плавучее могло вынести больший напор и не пойти ко дну. Но даже при самом живом воображении трудно себе представить, как треплет пароход в разбушевавшемся Атлантическом океане в бурную зимнюю ночь. Рассказать, как волны бросают его на бок, так что верхушки мачт погружаются в воду, и не успевает он выпрямиться, – его швыряет на другой бок, а потом вдруг гигантский вал ударяет в борт с грохотом сотни пушек и отбрасывает его назад и тогда он останавливается, сотрясаясь и вздрагивая словно оглушенный ударом, а затем с яростным биением своего механического сердца бросается вперед, подобно обезумевшему чудовищу, и рассвирепевшее море снова обрушивается на него, бьет, валит, сокрушает; рассказать, как гром и молнии, град и дождь, и ветер вступают в яростную борьбу за него, как стонет каждая доска, визжит каждый гвоздь и ревет каждая капля воды в бескрайном океане, – все равно что ничего не рассказать. Назвать это зрелище в высшей мере грандиозным, ошеломляющим и жутким, – все равно что ничего не сказать. Этого не выразить словами. Этого не охватить мыслью. Только во сне можно вновь пережить такую бурю во всем ее неистовстве, ярости и страсти.
И все же в самый разгар всех этах ужасов я оказался в столь смешном положении, что даже в тот момент понимал всю его нелепость не хуже, чем сейчас, и так же не мог удержаться от смеха, как в любом другом эабавном случае, когда все располагает к веселью. Около полуночи нас качнуло на такой волне, что вода хлынула в люки, распахнула двери наверху и с ревом и грохотом ворвалась в дамскую каюту к несказанному ужасу моей жены и одной маленькой шотландки, которая, кстати сказать, незадолго перед тем послала к капитану стюардессу с запиской, вежливо прося его тотчас распорядиться, чтобы на каждой мачте, а также на трубе были установлены стальные громоотводы: тогда можно будет не бояться, что в судно ударит молния. Обе дамы, а также и горничная, о которой уже упоминалось выше, находились в каком-то пароксизме страха, и я просто не знал, что с ними делать; естественно, я подумал о каком-нибудь подкрепляющем или успокоительном средстве, но в тот момент мне не пришло в голову ничего лучшего, чем коньяк с горячей водой, и я незамедлительно наполнил этой смесью стакан. Стоять или сидеть, ни за что не держась, было невозможно, женщины забились в уголок большого дивана – сооружения, тянувшегося во всю длину каюты, – и, уцепившись друг за друга, ежеминутно ожидали, что вот-вот пойдут ко дну. Едва я подошел к ним со своим целебным средством, чтобы дать питье ближайшей страдалице, присовокупив к нему несколько слов утешения, как обе дамы, к ужасу моему, вдруг медленно покатились в другой конец дивана. Когда же я, пошатываясь, добрался до этого конца и снова протянул стакан, судно снова накренилось, и они покатились обратно, а мои добрые намерения разлетелись в прах! Мне кажется, я не меньше четверти часа гонялся за ними вдоль дивана и ни разу не сумел настичь; а когда, наконец, мне это удалось, коньяку в стакане осталось не более чайной ложки. Для полноты картины необходимо указать, что сам незадачливый преследователь был смертельно бледен от морской болезни, не брит и не чесан с тех пор, как покинул Ливерпуль, а вся его одежда (не считая белья) состояла из толстых суконных брюк, синего пиджака, когда-то восхищавшего Ричмонд[9 - Ричмонд – юго-западное предместье Лондона на правом берегу Темзы; любимое место загородных прогулок лондонцев.] на Темзе, и одной ночной туфли при полном отсутствии носков.
Я обхожу молчанием издевательские выходки судна на следующее утро: улежать в постели можно было, лишь став настоящим акробатом, а выбраться из нее иначе, как вывалившись на пол, – просто невозможно. Но никогда еще не доводилось мне видеть такой бесконечно унылой и безнадежной картины, как та, что открылась моему взору в полдень, когда меня буквально вышвырнуло на палубу. И океан и небо были одинаково безотрадного, тусклого, свинцового цвета. Даже за окружавшей нас унылой пустыней глазу не открывалось никаких перспектив, так как волны вздымались горами и горизонт сжимал нас, словно большой черный обруч. Если бы это зрелище наблюдать с воздуха или с какого-нибудь высокого утеса на берегу, оно несомненно казалось бы величественным и грандиозным, но с мокрой и колеблющейся под ногами палубы оно вызывало лишь головокружение и тошноту. Во время ночного шторма спасательная лодка от удара волны раскололась, как грецкий орех, и теперь висела, болтаясь в воздухе какой-то беспорядочной охапкой досок. Деревянный кожух, защищавший гребные колеса, был начисто снесен, и они вертелись, оголенные и ничем не прикрытые, разбрасывая во все стороны пену и обдавая палубы фонтанами брызг. Труба побелела от налета соли; стеньги убраны; поставлены штормовые паруса; весь такелаж, мокрый и обвисший, спутан и перекручен, – словом, картина такая мрачная, какая только может быть.
Мне любезно предоставили возможность удобно устроиться в дамской каюте, где, помимо нас с женой, было еще только пятеро пассажиров. Во-первых, уже известная нам маленькая шотландка, ехавшая к мужу, который обосновался в Нью-Йорке три года назад. Во-вторых и в-третьих, честный молодой йоркширец, связанный с какой-то американской фирмой; он тоже проживал в Нью-Йорке и теперь вез туда свою хорошенькую молодую жену, с которой обвенчался всего две недели назад, – лучший образец миловидной английской фермерши, какой я когда-либо видел. В-четвертых, в-пятых и в-последних, – еще чета, тоже молодожены, судя по нежностям, которые они непрестанно расточали друг другу. Про них могу сказать лишь, что их окутывала некая таинственность и что они походили на двух беглецов; дама тоже была очень привлекательна, а джентльмен имел при себе больше ружей, чем Робинзон Крузо, носил охотничью куртку и вез с собой двух больших собак. Припоминается мне еще, что этот джентльмен пробовал лечиться от морской болезни горячим жареным поросенком и крепким элем и принимал это лекарство с поразительным упрямством изо дня в день (лежа в постели). К сведению интересующихся могу добавить, что оно явно не помогало.
Погода упорно оставалась на редкость скверной, а потому, слабые и несчастные, мы к полудню обычно кое-как добирались до этой каюты и ложились на диваны, чтобы немного прийти в себя; в эту пору капитан заходил к нам сообщить о направлении и силе ветра, о скорости передвижения судна и так далее, и выразить искреннее убеждение в том, что завтра ветер переменится (на море погода всегда обещает завтра стать лучше). Больше ему нечего было нам сообщить, так как солнце не показывалось, а значит вести наблюдения было невозможно. Впрочем, довольно будет описать один наш день, чтобы дать представление обо всех остальных. Вот это описание.
Чарльз Диккенс
Чарльз Диккенс
АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ
Предисловие
Мои читатели имеют возможность сами разобраться, действительно ли существовали в Америке те влияния и тенденции, которые заставили меня насторожиться, или это только плод моего воображения. Они могут сами установить, проявлялись ли с тех пор эти влияния и тенденции в общественной жизни Америки как внутри страны, так и за границей. А выяснив это, они смогут меня судить. Если они обнаружат какие-либо факты, свидетельствующие о том, что хотя бы в одном из указанных мной отношений Америка отклонилась от правильного пути, значит я имел основания писать то, что я написал. Если же они таких фактов не обнаружат, – значит, я ошибся, но без всякого умысла.
Никакого предвзятого мнения у меня нет и никогда не было, – а если оно и было, то в пользу Соединенных Штатов. У меня в Америке много друзей, я с приязнью и интересом отношусь к этой стране и верю и надеюсь, что она успешно решит проблему, имеющую величайшее значение для всего человечества. Выставлять меня человеком, относящимся к Америке злобно, холодно или враждебно, – просто глупо, а сделать глупость – всегда легко.
Глава I
Отъезд
Я никогда не забуду того изумления, на четверть тревожного и на три четверти веселого, с каким я утром третьего января тысяча восемьсот сорок второго года приоткрыл дверь спальной каюты на борту пакетбота «Британия», водоизмещением в тысячу двести тонн, направлявшегося в Галифакс и Бостон с грузом почты ее величества[1 - …с грузом почты ее величества… – т.е. с грузом Министерства почт Великобритании. По исторически сложившейся традиции названия английских государственных учреждений и должностных лиц всегда сопровождаются словами «его (или ее) величества».].
Что каюта отведена специально для «Чарльза Диккенса, эсквайра[2 - …Чарльза Диккенса, эсквайра… – В середине века эсквайрами называли оруженосцев рыцарей. Со временем слово изменило свое значение, и так стали именовать людей, не имеющих дворянского звания, но привилегированных по своему общественному положению, как то: чиновников, адвокатов, врачей, писателей и просто зажиточных буржуа. В настоящее время слово «эсквайр» почти вышло из употребления.], с супругой», было достаточно ясно даже для моего потрясенного рассудка, поскольку об этом извещала крохотная записка, приколотая к очень тонкому ватному одеялу, покрывавшему очень тощий матрац, который лежал, подобно слою хирургического гипса, на совершенно недосягаемой полке. Но что именно это и есть та каюта, по поводу которой Чарльз Диккенс, эсквайр, с супругой совещались день и ночь добрых четыре месяца; что таковою могла оказаться та маленькая уютная комнатка, которую Чарльз Диккенс, эсквайр, рисовал себе в мечтах и, окрыленный пророческим вдохновением, предсказывал, что в ней будет стоять по крайней мере одна кушетка, – а его супруга, придерживаясь более скромного, но все же преувеличенного мнения о ее размерах, с самого начала усомнилась, удастся ли поместить в каком-нибудь уголке более двух огромных сундуков (сундуки эти было бы так же невозможно не только поставить, но хотя бы протащить сейчас в каюту, как невозможно убедить или заставить жирафа влезть в цветочный горшок); что эта крайне неудобная, безнадежно унылая и абсолютно нелепая коробка имеет хотя бы отдаленное отношение или касательство к изящным, красивым, я уж не говорю, роскошным маленьким будуарам, мастерски изображенным на яркой цветной литографии, висевшей в конторе агентства в Лондоне; словом, что эта каюта может быть чем-то иным, кроме веселой мистификации, забавной шутки капитана, задуманной и осуществленной для того, чтобы пассажир испытал побольше удовольствия и наслаждения при виде настоящей спальной каюты, – все эти истины я в ту минуту, сколько ни старался, право, не мог ни воспринять, ни постичь. И я сел на нечто вроде насеста или валика из конского волоса, – каковых в каюте было два, – и бессмысленно посмотрел на своих друзей, которые вместе с нами взошли на борт пакетбота и теперь строили самые невероятные гримасы, пытаясь просунуть голову в крошечную дверцу.
Перед тем как спуститься в каюту, мы уже пережили изрядное потрясение, которое, не будь мы величайшими оптимистами, могло бы подготовить нас к самому худшему. Художник с пылкой фантазией, о котором я уже упоминал, изобразил в том же великом произведении залу почти беспредельной глубины, обставленную, как сказал бы мистер Робинс, со сверхвосточным великолепием[3 - …обставленную, как сказал бы мистер Робинс, со сверх восточным великолепием… – Мистер Робинс – известный в Лондоне 40—50-х годов аукционист, выпускавший каталоги с рекламным описанием продававшихся вещей.], где толпились (но не теснились) веселые и оживленные леди и джентльмены. Собираясь спуститься в чрево судна, мы прошли с палубы в длинное узкое помещение, напоминающее гигантский катафалк с окнами по сторонам; в дальнем конце его виднелась унылая печь, у которой грели руки три иди четыре продрогших стюарда, а во всю его безотрадную длину вдоль обеих стен стояли длинные-предлинные столы и над каждым из них – привинченная к низкому потолку полка с гнездами для стаканов и судков, что наводило на мрачные мысли о бушующем море и штормовой погоде. В то время я еще не успел познакомиться с идеальным иэображением этой комнаты, доставившим мне впоследствии столько удовольствия, но я заметил, как один из наших друзей, помогавший нам готовиться к путешествию, войдя в нее, побледнел, затем, попятившись, наступил на ногу тому, кто стоял позади, и, невольно хлопнув себя по лбу пробормотал: «Непостижимо! Не может быть!» – или что-то в этом роде. Однако, сделав страшное усилие, он взял себя в руки, кашлянул разок-другой и громко произнес, озираясь по сторонам с застывшей улыбкой, которую я до сих пор не могу забыть: «Скажите, стюард, это, верно, комната, где у вас завтракают?» Мы все представили, каков будет ответ; нам были понятны его мучения. Он часто говорил о кают-компании, поверил той картине в лондонском агентстве и ею питал свою фантазию. Чтобы составить себе правильное представление об этой зале, – обычно пояснял он нам еще дома, нужно в семь раз увеличить размеры обыкновенной гостиной и количество стоящей в ней мебели, и того будет мало. И вот теперь, когда стюард в ответ изрек истину грубую, беспощадную, голую истину: «Это кают-компания, сэр», мой друг буквально зашатался от такого удара.
Когда людям предстоит вот-вот расстаться с теми, кого они привыкли встречать ежедневно, когда их вскоре должен разделить барьер в виде многих тысяч миль бурного водного пространства и поэтому хочется, чтобы ни одно облачко, ни одна мимолетная тень минутного разочарования или смущения не омрачали тех счастливых минут, что еще осталось провести вместе, – в таких обстоятельствах, естественно, на смену первому удивлению приходит веселый смех. Могу сообщить, что я в частности, сидя на вышеупомянутом валике, или насесте, разразился неистовым хохотом и хохотал до того, что судно заходило ходуном. Таким образом, не прошло и двух минут после нашего первого знакомства с каютой, как все мы согласились на том, что она – самое приятное, самое прелестное и самое удобное помещение, какое только можно придумать, и было бы весьма неприятно и прискорбно, если бы она оказалась хоть на дюйм больше. После чего, продемонстрировав, каким образом можно разместиться в ней четверым, – если дверь прикрыть и проползать в нее, извиваясь как змея, и если маленькую нишу с умывальником считать площадью для одного из присутствующих, – мы стали убеждать друг друга обратить внимание на то, какой тут свежий воздух (во время стоянки), и какой чудесный иллюминатор, который можно целый день держать открытым (если позволяет погода), и какой большой фонарь висит как раз над зеркалом, благодаря чему бритье будет самой легкой и приятной процедурой (когда не слишком качает), и пришли, наконец, к единодушному выводу, что каюта не только не мала, а даже просторна. Однако я глубоко убежден, что если не считать двух коек, – расположенных одна над другой и таких узких, что, пожалуй, только в гробу спать еще теснее, – каюта была не больше одного из тех наемных кабриолетов с дверцей позади, из которых седоки вываливаются на мостовую, словно мешки с углем.
Разрешив этот вопрос к полному удовлетворению всех заинтересованных и незаинтересованных сторон, мы уселись вокруг огня в дамской каюте, – просто чтобы посмотреть, как это получится. Было, правда, довольно темно, но кто-то сказал: «В открытом море, конечно, будет светлее», с чем мы все согласились, повторяя: «Конечно, конечно», хотя весьма трудно сказать, почему мы так думали. Обнаружив и всесторонне обсудив еще одно утешительное обстоятельство, а именно: что дамская каюта примыкает к нашей, благодаря чему у нас есть полная возможность располагать этой каютой в любой час дня и при любой погоде, – мы, помнится, с минуту сидели молча, подперев подбородки руками и глядя в огонь, и тогда один из нас сказал с торжественным видом человека, сделавшего открытие: «А как вкусен будет здесь глинтвейн из кларета!» Это открытие чрезвычайно поразило нас, как будто в воздухе кают есть нечто пикантное и изысканно благоуханное, что существенно улучшает этот напиток и исключает всякую возможность довести его до того же совершенства в любом другом месте.
Тут же вертелась стюардесса, которая с большим рвением извлекала чистые простыни и скатерти из недр диванов я из самых неожиданных вместилищ такого хитроумного устройства, что голова кружилась, когда они раскрывались одно за другим. Следить за ее движениями было истинным развлечением: выяснилось, что каждый уголок и закоулок, каждый предмет обстановки был в действительности совсем не тем, чем казался на первый взгляд, а представлял собой ловушку, скрытый фокус или тайник и что использовать ту или иную вещь по ее прямому назначению было бы самым неразумным на свете.
Да благословит бог эту стюардессу за благонамеренное жульничество, каким явился ее рассказ о плавании в январе! Да благословит ее бог за то, с какою ясностью она припомнила все подробности прошлогоднего путешествия, когда никто не болел, и все танцевали с утра до вечера, и весь «переход» длился всего двенадцать дней веселая, чудесная поездка, чистое удовольствие! Дай ей бог счастья за ее светлую улыбку и приятный шотландский выговор, который напоминал моей спутнице милые родные края[4 - …напоминал моей спутнице милые родные края. – Семья жены Диккенса, урожденной Хогарт, происходила из Шотландии.]; и за предсказания попутного ветра и тихой погоды (ни одно из них не сбылось, – но тем милее она мне сейчас), а также те бесчисленные проявления подлинно женского такта, благодаря которому без особо хитроумных уверток и уж слишком искусных, шитых белыми нитками построений – ей со всею ясностью удалось доказать, что молодым матерям, находящимся по одну сторону Атлантического океана, рукой подать до своих детишек, оставшихся по другую его сторону, а то, что непосвященному кажется далеким путешествием, для посвященных – всего лишь пустая забава. Пусть долгие годы будет легко на душе у этой девушки, и пусть ничто не омрачает ее веселого взора!
Каюта ширилась и росла у нас на глазах, а к этому времени она превратилась в нечто и вовсе грандиозное, и иллюминатор казался чуть ли не окном-фонарем, выходившим на морской простор. Итак, мы снова поднялись на палубу в наилучшем расположении духа, а там шла такая кипучая подготовка к отплытию, что поневоле становилось весело на душе и кровь бурлила и быстрее бежала по жилам в это ясное морозное утро. Вокруг величавые суда медленно покачивались на волнах, и маленькие катера с шумом плескались в воде, а на пристани стояли толпы народа, которые «в трепетном восхищении» взирали на знаменитый быстроходный американский корабль. Несколько человек «принимали на борт молоко», или, иначе говоря, загоняли на пароход корову; другие – доверху набивали ледники свежей провизией: мясом и зеленью, бледными тушками молочных поросят, десятками телячьих голов, говядиной, телятиной, свининой и несметным количеством дичи; третьи – сматывали канаты и возились с конопатью; четвертые – спускали в трюм тяжелые грузы, а за огромной грудой пассажирского багажа едва виднелась голова эконома, взиравшего на все с видом полнейшей растерянности; и казалось, нигде, а главное – ни в чьих мыслях нет места ничему, кроме приготовлений к этому внушительному путешествию. Все было неотразимо прекрасно: и яркое холодное солнце, и бодрящий воздух, и подернутая рябью вода, и на палубе тонкая белая корочка утреннего ледка, который ломается с резким и веселым хрустом, едва на него ступишь. Когда же мы снова очутились на берегу и, обернувшись, увидели на мачте веселые яркие флажки, обозначавшие название судна, а рядом с ними полоскавшийся на ветру красивый американский флаг с полосами и звездами, нам вдруг показалось, будто все это и огромное расстояние в три с лишним тысячи миль, и долгие шесть месяцев отсутствия – уже промелькнуло и растаяло в тумане прошлого; будто судно отплыло в Америку и снова вернулось обратно, и уже наступила весна, и мы только что прибыли в Кобургский док в Ливерпуле.
Я не справлялся у своих знакомых врачей, действительно ли переезд по морю легче переносится, если питаться черепашьим супом и холодным пуншем из белого рейнвейна, шампанского и кларета, а также всяческими легкими закусками, обычно в неограниченных количествах входящими в меню хорошего обеда, – в особенности если оно полностью предоставлено на усмотрение моего непогрешимого друга, мистера Редли из отеля «Аделфи»[5 - …моего непогрешимого друга мистера Редли из отеля «Аделфи». – Мистер Редли – владелец первоклассного ливерпульского отеля, в котором Диккенс имел обыкновение останавливаться.]. Или, может быть, напротив – кусок простой баранины да стаканчик-другой хереса были бы менее способны превратиться в инородное вещество, вызывающее неприятное ощущение? Мне лично кажется: будет ли человек умерен иди невоздержан накануне отплытия – это не имеет существенного значения, ибо, как говорится: «Конец всегда один и тот же». Но как бы там ни было, я знаю, что обед в тот день был несомненно превосходный и состоял он из всех перечисленных выше блюд и множества других, которым мы отдали должное. И мы благополучно перенесли испытание и даже были веселы, насколько могли, но только, как бы по молчаливому уговору, избегали каких-либо упоминаний о завтрашнем дне – как это бывает, вероятно, между сердобольными тюремщиками и слабонервным узником, которого на следующее утро должны повесить.
Когда же настало утро – то утро и мы встретились за завтраком, было прямо забавно наблюдать, как все старались поддержать разговор, чтобы он ни на минуту не прекращался, и как все были необыкновенно веселы. Вымученное остроумие каждого члена нашей маленькой компании не больше походило на его обычную веселость, чем запах оранжерейного горошка по пяти гиней за четверть – на разлитый в воздухе аромат цветущих лугов и на вспоенной дождем земли. Но по мере того как стрелка часов приближалась к часу пополудни, когда надлежало подняться на борт, – этот поток красноречия, несмотря на самые отчаянные усилия, стал мало-помалу иссякать, пока, наконец – поскольку стало ясно, что все попытки тщетны, – мы не отбросили всякое притворство и не начали вслух размышлять о том, где мы будем в этот час завтра, послезавтра и так далее. Мы вручили тем, кто намеревался вернуться в город в тот же вечер, множество всяких посланий, которые следовало непременно передать нашим родным и знакомым возможно скорее после прибытия поезда на вокзал Юстон-сквер[6 - Юстон сквер – площадь в Лондоне, на которую выходит первый в городе железнодорожный вокзал Лондонской Северо-западной дороги, выстроенной в 1838 году.]. В подобные минуты вспоминаешь всегда кучу важных дел и необходимых поручений, и мы все еще были заняты этим, как вдруг обнаружили, что уже крепко-накрепко впаяны в сплав, состоящий из пассажиров, друзей пассажиров и багажа пассажиров, и вместе с этим сплавом переместились на палубу маленького пароходика, который, конвульсивно вздрагивая и пыхтя, двинулся по направлению к пакетботу, вышедшему вчера днем из дока и стоявшему сейчас поодаль на якоре.
Вот он! Все взоры устремлены на пакетбот, очертания которого расплываются в сгущающемся тумане зимнего дня; все указывают рукой в одном направлении» и со всех сторон слышны удивленные и восторженные возгласы: «О, какой красивый!», «Какой нарядный!» Даже ленивый джентльмен в шляпе набекрень, который весьма успокоительно подействовал на многих, когда, засунув руки в карманы и позевывая, с небрежным видом спросил другого джентльмена, не едет ли и он «на ту сторону», точно речь шла о переправе через реку на пароме, – даже и этот джентльмен снисходительно бросает взгляд на пакетбот и кивает головой, как бы говоря: «Ну, тут дело чистое». Думается, сам премудрый лорд Бэрли[7 - Лорд Бэрли (1520—1598) – известный английский государственный деятель, был государственным казначеем в Эпоху королевы Елизаветы.] не кивал и вполовину так многозначительно, как этот всемогущий ленивый джентльмен, который (неизвестно откуда, но это уже знали все на борту) тринадцать раз пересек океан без единого неприятного происшествия! Есть тут и еще один пассажир, закутанным с головы до пят; при виде его остальные хмурятся, уничтожая его презрительными взглядами: говорят, он робко поинтересовался, давно ли пошел ко дну бедный «Президент». Он стоит рядом с ленивым джентльменом и со слабой улыбкой выражает надежду, что эта штука судно достаточно крепкое. И ленивый джентльмен, взглянув сначала вопрошающему в глаза, а затем пытливо посмотрев, каково направление ветра, неожиданно и зловеще отвечает, что, должно быть, так. После этого ленивый джентльмен сразу низко падает в глазах общества, и пассажиры, пренебрежительно поглядывая на него, нашептывают друг другу, что он осел и мошенник и явно ничего не смыслит в таких вещах.
Но вот мы подошли к самому пакетботу, огромная красная труба которого храбро дымит, многообещающе заверяя в его серьезных намерениях. Уже из рук в руки передают ящики, сундуки, саквояжи и картонки, и все это с головокружительной быстротой грузится на судно. С офицеры в нарядной форме стоят у трапа, помогая пассажирам взобраться на палубу и поторапливая матросов. Через пять минут маленький пароходик совсем опустел, а пакетбот был мгновенно битком набит живым грузом. В каждом уголке и закоулке – десятки пассажиров; они ползут внутрь судна со своим багажом, спотыкаясь по дороге о чужой; удобно располагаются не в тех каютах, где следует, и создают ужасающий переполох, когда приходится выбираться; с яростью дергают ручку запертой двери или пытаются пройти там, где нет прохода; засыпают невыполнимыми поручениями растрепанных очумелых стюардов, заставляя их бегать взад и вперед по палубам, где свищет ветер, – короче говоря, поднимают самую невообразимую суматоху. И среди этой суеты по штормовому мостику, хладнокровно попыхивая сигарой, прогуливается ленивый джентльмен, как видно, не обремененный ни багажом, ни даже провожающими; это независимое поведение снова возвышает его в глазах тех, у кого хватает времени наблюдать за ним, и всякий раз, как он бросает взгляд вверх, на мачты, или вниз, на палубу, или за борт, они смотрят туда же, как бы спрашивая себя, не заметил ли он там чего-либо подозрительного, и надеясь, что он не откажет в любезности сообщить им, если действительно что-нибудь не так.
Что это там? Капитанская шлюпка, а вот и сам капитан! Он как раз таков, каким мы надеялись его видеть! Ладно скроенный, плотно сбитый, подвижной человечек с румяным приветливым лицом, взглянув на которое так и хочется пожать ему сразу обе руки, и с ясными честными голубыми глазами, в которых приятно видеть собственное искрящееся отражение.
– Давайте сигнал!
«Динь-динь-динь» – даже колокол и тот торопится.
– На берег, – кому на берег?
– Джентльмены, прошу вас.
Они уже ушли и даже не попрощались. А теперь они машут руками и кричат с пароходика: «До свидания, до свидания!» Троекратные приветствия с катера, троекратные приветствия с нашего корабля; снова троекратные приветствия пароходика, – и они исчезли из виду.
Взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед сотни раз! Это ожидание последних мешков с почтой хуже всего. Если бы мы могли отплыть под приветственные возгласы провожающих, то поездка наша началась бы подобно триумфальному шествию, но стоять на якоре в течение двух часов и больше, затерявшись в мокром тумане, уже не находясь дома и еще не отплыв на чужбину, – тут волей-неволей погрузишься в пучину скуки и уныния. Но вот, наконец, – точка в тумане! Что-то движется. Да это тот самый катерок, которого мы ждем! Вот это кстати! На капитанском мостике показывается капитан с большим рупором; офицеры становятся по своим местам; матросы все наготове; гаснущие надежды пассажиров разгораются; коки прерывают свою аппетитную работу и с интересом выглядывают из дверей камбуза. Катерок подходит к пакетботу; на палубу кое-как втаскивают мешки с почтой и пока что бросают куда попало. Снова троекратные приветствия, и едва первый звук их достиг наших ушей, судно содрогнулось, подобно могучему великану, в которого только что вдохнули жизнь; два его огромных колеса с силой сделали первый оборот, и благородный корабль, подгоняемый ветром и течением, гордо двинулся, рассекая бурлящие и вспененные воды.
Глава II
В пути
В тот день мы обедали все вместе; и собралась нас компания немалая: человек восемьдесят шесть. Судно, приняв полный запас угля и большое количество пассажиров, изрядно осело, погода была безветренная, море спокойное, и качка ощущалась лишь слегка, так что уже к середине обеда даже те из пассажиров, кто был наименее уверен в себе, удивительно осмелели; те же, кто поутру на традиционный вопрос: «Вы хороший моряк?» давали категорически отрицательный ответ, теперь либо парировали вопрос уклончивым: «Полагаю, что я не хуже всякого другого», либо же, пренебрегая всякими принципами морали, смело ответствовали: «Да», причем делали это с некоторым раздражением, словно хотели добавить: «Желал бы я знать, сэр, что вы именно во мне увидели такого, что могло бы оправдать ваши подозрения?» Несмотря на этот бодрый тон, мужественный и уверенный, я не мог не заметить, что лишь очень немногие задержались после обеда за бокалом вина; все проявляли необычайное пристрастие к свежему воздуху, а излюбленными местами, которых больше всего домогались, неизменно были места поближе к двери. За чаем было далеко не так людно, как за обедом, а игроков в вист оказалось меньше, чем можно было ожидать. Все-таки, за исключением одной дамы, удалившейся с некоторой поспешностью из-за обеденного стола тотчас после того, как ей подали отменный кусок очень желтой отварной баранины с очень зелеными каперсами, никто пока не поддавался нездоровью. Расхаживание, и курение, и потягивание коньяка с водой (но всегда и только на открытом воздухе) продолжались с неослабным усердием часов до одиннадцати, когда пришло время «сойти в каюту», ни один мореход, имеющий за плечами семичасовой опыт, не скажет «пойти спать». Непрестанный стук каблуков по палубе сменился глубокой тишиной; весь человеческий груз был убран в нижние помещения, не считая очень немногих полуночников вроде меня, которым, вероятно, как и мне, было страшно туда спускаться.
На человека непривычного ночь на борту судна производит большое впечатление. Даже впоследствии, когда это впечатление потеряло свою новизну, оно еще долго сохраняло для меня особую прелесть и очарование. Мрак, сквозь который огромная черная глыба прямо и уверенно держит свой курс; отчетливо слышный плеск невидимых волн; широкий белый пенистый след, оставляемый судном; вахтенные на баке, только потому и различимые на фоне темного неба, что они заслоняют десяток-другой сверкающих звезд; рулевой у штурвала и перед ним развернутая карта – пятнышко света среди тьмы, словно нечто одухотворенное, наделенное божественным разумом; меланхолические вздохи ветра в блоках, канатах и цепях; свет, пробивающийся из каждой щели и скважины, сквозь каждое стеклышко надпалубных строений, как будто корабль наполнен скрытым огнем, готовым вырваться через любое отверстие во всем ужасающем неистовстве своей гибельной разрушительной силы. Кроме того, по началу – и даже позднее, когда привыкаешь и к ночи и к тому, что все предметы в ней приобретают какую-то особую торжественность, – трудно, оставаясь наедине со своими мыслями, воспринимать предметы такими, какими видишь их днем. Они изменяются по воле воображения; принимают образы вещей, оставленных где-то далеко; приобретают памятные очертания любимых, дорогих сердцу мест и даже населяют их призраками. Улицы, дома и комнаты, человеческие фигуры, настолько схожие с действительными, что они поражали меня своей реальностью, – я и не подозревал в себе такой способности видеть мысленным взором отсутствующих! – все это много, много раз внезапно возникало из предметов, чей настоящий облик, употребление и назначение я знал как свои пять пальцев.
Однако, поскольку в данном случае все мои пальцы на руках и на ногах очень озябли, я в полночь сполз вниз. Внизу было не слишком уютно. Воздух был довольно спертый, и невозможно было не заметить той необычайной смеси странных запахов, какая встречается только на борту судна и представляет собою столь острый аромат, что он, кажется, проникает во все поры кожи, напоминая вам о корабельном трюме. Две жены пассажиров (одна из них моя) уже лежали, в безмолвных муках, на диване, и горничная одной из жен (моей жены) валялась на полу, как узел тряпья, проклиная свою судьбу и тряся папильотками среди разбросанных чемоданов. Все куда-то скользило, причем в самых непредвиденных направлениях, и уже одно это создавало, неодолимые препятствия. Я только что оставил дверь открытой у подножия некоего склона; когда же я повернулся, чтобы закрыть ее, она оказалась где-то на вершине. Все планки и шпангоуты то скрипели, словно судно было сплетено из прутьев, как корзина, то трещали, будто огромный костер из самых сухих сучьев. Оставалось только одно – лечь в постель, что я и сделал.
Следующие два дня прошли примерно так же – с умеренно-свежим ветром и без дождя. Я много читал в постели (но и по сей день не знаю, что именно) и ненадолго выходил побродить по палубе; с невыразимым отвращением пил коньяк с холодной водой и упрямо грыз твердые галеты: я не был болен, но находился на грани болезни.
Настает третье утро. Меня пробуждает ото сна отчаянный крик моей жены, желающей знать, не грозит ли нам опасность. Я приподымаюсь и выглядываю из постели. Кувшин с водой ныряет и прыгает, как резвый дельфин; все небольшие предметы плавают, за исключением моих башмаков, севших на мель на саквояже, словно пара угольных барж. Внезапно они у меня на глазах подскакивают в воздух, а зеркало, прибитое к стене, прочно прилипает к потолку. В то же время дверь совсем исчезает и в полу открывается другая. Тогда я начинаю понимать, что каюта стоит вверх ногами.
Еще не успели вы сколько-нибудь приспособиться к этому новому положению вещей, как судно выпрямляется. Не успели вы молвить «слава богу», как оно снова накреняется. Не успели вы крикнуть, что оно накренилось, как вам уже кажется, что оно двинулось вперед, что это – живое существо с трясущимися коленями и подкашивающимися ногами, которое несется по собственной прихоти, непрестанно спотыкаясь, по всевозможным колдобинам и ухабам. Не успели вы удивиться, как оно подпрыгивает высоко в воздух, еще не завершив прыжка, – уже ныряет глубоко в воду. Еще не выбравшись на поверхность, – выкидывает курбет. Едва успев снова встать на ноги, – стремительно бросается назад. И так оно движется – шатаясь, вздымаясь, опускаясь, борясь, прыгая, ныряя, подскакивая, подрагивая, переваливаясь и покачиваясь, и проделывая все эти движение иногда по очереди, а иногда одновременно, пока вы не начинаете чувствовать, что готовы взреветь о пощаде. Проходит стюард.
– Стюард!
– Сэр?
– Что тут творится? Как это по-вашему называется?
– Довольно сильное волнение, сэр, и лобовой ветер.
Лобовой ветер! Представьте себе носовую часть корабля в виде человеческого лица и вообразите некоего Самсона, могучего, как пятнадцать тысяч Самсонов, который стремится отбросить корабль назад и наносит ему удары прямо в переносицу, лишь только тот пробует продвинуться хотя бы на дюйм. Вообразите самый корабль: все вены и артерии его громадного тела вздулись и готовы лопнуть под жестоким напором противника, но он поклялся пройти или погибнуть. Вообразите вой ветра, рев моря, потоки дождя, неистовство стихий, восставших против него. Вообразите небо, темное и бурное, и облака, в диком единодушии с волнами образующие другой океан в воздухе. Добавьте ко всему этому грохот на палубе и под ней; поспешный топот; громкие хриплые голоса моряков; клокотанье воды, бьющей из шпигатов и в шпигаты; и время от времени – тяжелый удар волны о палубный настил над вашей головой, точно мертвенный, глухой, тяжкий отголосок громового раската в склепе, – и вы получите впечатление о лобовом ветре в то январское утро.
Я умалчиваю о том, что можно назвать местными шумами на судне: о звоне разбивающегося стекла и фаянса, о беготне стюардов по трапу, веселых прыжках по палубе оторвавшихся бочонков и нескольких дюжин беглых бутылок портера; и о весьма любопытных, но отнюдь не веселящих душу звуках, издаваемых в различных каютах семьюдесятью пассажирами, слишком немощными, чтобы подняться к завтраку. О них я умалчиваю: хоть я и слышал этот концерт три или четыре дня кряду, но слушать его мог лишь каких-нибудь четверть минуты, после чего, почувствовав сильный приступ морской болезни, снова укладывался в постель.
Впрочем, речь идет не о морской болезни в обычном смысле слова – это бы еще полбеды. То была особая форма, о какой я ранее никогда не слыхал и не читал, хотя не сомневаюсь, что она довольно распространена. Весь день я лежал, безучастный и апатичный, не испытывая ни усталости, ни желания подняться, почувствовать себя лучше или выйти на воздух; не испытывая ни малейшего любопытства, ни забот, ни сожалений; и помнится, в этом полном безразличии я ощущал лишь некую ленивую радость, какое-то злорадное наслаждение, если при такой сонной апатии вообще можно чем-либо наслаждаться, – от того, что жена моя была чересчур больна, чтобы говорить со мной. Если мне дозволят воспользоваться таким примером, дабы обрисовать мое душевное состояние, то я сказал бы, что чувствовал себя в точности так, как мистер Уиллет-старший после того, как погромщики посетили его пивную в Чигуэлле[8 - …чувствовал себя в точности так, как мистер Уиллет-старший после того, как погромщики посетили его пивную в Чигуэлле. – Диккенс вспоминает эпизод из своего романа «Барнеби Радж» (1841). Чигуэлл-предместье Лондона.]. Ничто не могло бы меня удивить. Если бы в минуту просветления, озарившего меня в виде мыслей о родине, в мою крошечную конурку средь бела дня явилось привидение – самое настоящее привидение в образе почтальона в алом кафтане и с колокольчиком, – попросило бы извинения за то, что, пройдясь по морю, намотало ноги, и вручило мне письмо, надписанное знакомым почерком на конверте, я уверен, что и тут не удивился бы. Я принял бы это как должное. Да если бы в каюту вошел сам Нептун с жареной акулой на трезубце, я бы отнесся к этому как к одному из самых обычных повседневных происшествий.
Однажды… однажды я оказался на палубе. Не знаю, как я туда попал и что меня туда погнало, но, так или иначе, я оказался там, причем совершенно одетый, в огромной матросской куртке из грубого сукна и в таких сапогах, которые слабый человек, находясь в здравом уме, ни за что не сумел бы натянуть на ноги. Когда сознание мое на миг прояснилось, я обнаружил, что стою, держась за что-то. Только не знаю, за что. Кажется, это был боцман, а может быть, насос. Или, возможно, корова. Не могу сказать, как долго я там находился – целый день или одну минуту. Припоминаю, что я пытался о чем-нибудь думать (о чем именно мне было все равно), но безуспешно. Я не мог даже разобрать, где море, а где небо, так как горизонт у меня перед глазами плясал словно с перепою. Несмотря на свое беспомощное состояние, я все же узнал ленивого джентльмена, который стоял передо мной; на нем был синий костюм моряка, на голове – клеенчатая зюйдвестка. Но в тот момент я настолько плохо соображал, что хотя и узнал его, однако не мог отделаться от впечатления, которое произвела на меня его морская одежда, и, помнится, упорно называл его «лоцманом». После этого я снова на некоторое время впал в беспамятство, а когда очнулся, обнаружил, что он исчез и на его месте стоит кто-то другой. Эта новая фигура дрожала и расплывалась перед моими глазами, словно отражение в кривом зеркале, но я узнал в ней капитана; и так ободряюще действовал на всякого самый его вид, что я попытался улыбнуться, – да, даже тут попытался улыбнуться. По его жестам я видел, что он обращается ко мне: он корил меня за то, что я стою по колено в воде (как это случилось – право, не знаю), но прошло немало времени, прежде чем я уразумел смысл его жестикуляции. Я хотел поблагодарить его, но из этого ничего не вышло. Я сумел лишь указать на свои сапоги – или на то место где, по моим предположениям, они должны были находиться, – и выговорить жалобным голосом: «Подметки пробковые»; при этом, как мне потом рассказывали, я попытался сесть в воду. Видя, что я невменяем и внушать мне что-либо бесполезно, он великодушно отвел меня вниз.
Там я и оставался до тех пор, пока не почувствовал себя лучше. Всякий раз, как меня уговаривали что-нибудь съесть, я переживал такие муки, которые можно сравнить лишь с муками утопленника, возвращаемого к жизни. Один джентльмен, находившийся на борту нашего судна, имел ко мне рекомендательное письмо от нашего общего друга из Лондона. В то утро, когда подул лобовой ветер, этот джентльмен послал мне письмо вместе со своей визитной карточкой, и я долго страдал при мысли о том, что он, вероятно, вполне здоров и по сто раз в день ожидает моего появления в кают-компании. Мне он представлялся одною из тех словно литых фигур, которые, надувая красные щеки, зычным голосом спрашивают, что за штука морская болезнь и действительно ли она так неприятна, как говорят. Эта мысль поистине терзала меня, и, кажется, никогда я не испытывал такого чувства беспредельной благодарности и величайшего удовлетворения, как в ту минуту, когда услышал от судового врача, что он только что поставил упомянутому джентльмену большой горчичник на живот. Я считаю, что мое выздоровление началось с того момента, как я получил это известие.
Впрочем, моему выздоровлению в значительной мере помог еще и штормовой ветер, который поднялся как-то на закате, когда мы уже дней десять были в море, и, все набирая силу, дул до самого утра; он утих всего на какой-нибудь час незадолго до полуночи. Но в неестественном спокойствии воздуха в этот час и в последующем нарастании шторма было что-то столь грозное и непостижимо зловещее, что я почти почувствовал облегчение, когда он разразился с полной силой.
Никогда не забуду я, с каким трудом пробирался корабль в ту ночь по бурному морю. «Неужели может быть еще хуже?» – Я часто слышал этот вопрос, когда все кругом куда-то скользило и подскакивало и когда казалось просто невероятным чтобы что-либо плавучее могло вынести больший напор и не пойти ко дну. Но даже при самом живом воображении трудно себе представить, как треплет пароход в разбушевавшемся Атлантическом океане в бурную зимнюю ночь. Рассказать, как волны бросают его на бок, так что верхушки мачт погружаются в воду, и не успевает он выпрямиться, – его швыряет на другой бок, а потом вдруг гигантский вал ударяет в борт с грохотом сотни пушек и отбрасывает его назад и тогда он останавливается, сотрясаясь и вздрагивая словно оглушенный ударом, а затем с яростным биением своего механического сердца бросается вперед, подобно обезумевшему чудовищу, и рассвирепевшее море снова обрушивается на него, бьет, валит, сокрушает; рассказать, как гром и молнии, град и дождь, и ветер вступают в яростную борьбу за него, как стонет каждая доска, визжит каждый гвоздь и ревет каждая капля воды в бескрайном океане, – все равно что ничего не рассказать. Назвать это зрелище в высшей мере грандиозным, ошеломляющим и жутким, – все равно что ничего не сказать. Этого не выразить словами. Этого не охватить мыслью. Только во сне можно вновь пережить такую бурю во всем ее неистовстве, ярости и страсти.
И все же в самый разгар всех этах ужасов я оказался в столь смешном положении, что даже в тот момент понимал всю его нелепость не хуже, чем сейчас, и так же не мог удержаться от смеха, как в любом другом эабавном случае, когда все располагает к веселью. Около полуночи нас качнуло на такой волне, что вода хлынула в люки, распахнула двери наверху и с ревом и грохотом ворвалась в дамскую каюту к несказанному ужасу моей жены и одной маленькой шотландки, которая, кстати сказать, незадолго перед тем послала к капитану стюардессу с запиской, вежливо прося его тотчас распорядиться, чтобы на каждой мачте, а также на трубе были установлены стальные громоотводы: тогда можно будет не бояться, что в судно ударит молния. Обе дамы, а также и горничная, о которой уже упоминалось выше, находились в каком-то пароксизме страха, и я просто не знал, что с ними делать; естественно, я подумал о каком-нибудь подкрепляющем или успокоительном средстве, но в тот момент мне не пришло в голову ничего лучшего, чем коньяк с горячей водой, и я незамедлительно наполнил этой смесью стакан. Стоять или сидеть, ни за что не держась, было невозможно, женщины забились в уголок большого дивана – сооружения, тянувшегося во всю длину каюты, – и, уцепившись друг за друга, ежеминутно ожидали, что вот-вот пойдут ко дну. Едва я подошел к ним со своим целебным средством, чтобы дать питье ближайшей страдалице, присовокупив к нему несколько слов утешения, как обе дамы, к ужасу моему, вдруг медленно покатились в другой конец дивана. Когда же я, пошатываясь, добрался до этого конца и снова протянул стакан, судно снова накренилось, и они покатились обратно, а мои добрые намерения разлетелись в прах! Мне кажется, я не меньше четверти часа гонялся за ними вдоль дивана и ни разу не сумел настичь; а когда, наконец, мне это удалось, коньяку в стакане осталось не более чайной ложки. Для полноты картины необходимо указать, что сам незадачливый преследователь был смертельно бледен от морской болезни, не брит и не чесан с тех пор, как покинул Ливерпуль, а вся его одежда (не считая белья) состояла из толстых суконных брюк, синего пиджака, когда-то восхищавшего Ричмонд[9 - Ричмонд – юго-западное предместье Лондона на правом берегу Темзы; любимое место загородных прогулок лондонцев.] на Темзе, и одной ночной туфли при полном отсутствии носков.
Я обхожу молчанием издевательские выходки судна на следующее утро: улежать в постели можно было, лишь став настоящим акробатом, а выбраться из нее иначе, как вывалившись на пол, – просто невозможно. Но никогда еще не доводилось мне видеть такой бесконечно унылой и безнадежной картины, как та, что открылась моему взору в полдень, когда меня буквально вышвырнуло на палубу. И океан и небо были одинаково безотрадного, тусклого, свинцового цвета. Даже за окружавшей нас унылой пустыней глазу не открывалось никаких перспектив, так как волны вздымались горами и горизонт сжимал нас, словно большой черный обруч. Если бы это зрелище наблюдать с воздуха или с какого-нибудь высокого утеса на берегу, оно несомненно казалось бы величественным и грандиозным, но с мокрой и колеблющейся под ногами палубы оно вызывало лишь головокружение и тошноту. Во время ночного шторма спасательная лодка от удара волны раскололась, как грецкий орех, и теперь висела, болтаясь в воздухе какой-то беспорядочной охапкой досок. Деревянный кожух, защищавший гребные колеса, был начисто снесен, и они вертелись, оголенные и ничем не прикрытые, разбрасывая во все стороны пену и обдавая палубы фонтанами брызг. Труба побелела от налета соли; стеньги убраны; поставлены штормовые паруса; весь такелаж, мокрый и обвисший, спутан и перекручен, – словом, картина такая мрачная, какая только может быть.
Мне любезно предоставили возможность удобно устроиться в дамской каюте, где, помимо нас с женой, было еще только пятеро пассажиров. Во-первых, уже известная нам маленькая шотландка, ехавшая к мужу, который обосновался в Нью-Йорке три года назад. Во-вторых и в-третьих, честный молодой йоркширец, связанный с какой-то американской фирмой; он тоже проживал в Нью-Йорке и теперь вез туда свою хорошенькую молодую жену, с которой обвенчался всего две недели назад, – лучший образец миловидной английской фермерши, какой я когда-либо видел. В-четвертых, в-пятых и в-последних, – еще чета, тоже молодожены, судя по нежностям, которые они непрестанно расточали друг другу. Про них могу сказать лишь, что их окутывала некая таинственность и что они походили на двух беглецов; дама тоже была очень привлекательна, а джентльмен имел при себе больше ружей, чем Робинзон Крузо, носил охотничью куртку и вез с собой двух больших собак. Припоминается мне еще, что этот джентльмен пробовал лечиться от морской болезни горячим жареным поросенком и крепким элем и принимал это лекарство с поразительным упрямством изо дня в день (лежа в постели). К сведению интересующихся могу добавить, что оно явно не помогало.
Погода упорно оставалась на редкость скверной, а потому, слабые и несчастные, мы к полудню обычно кое-как добирались до этой каюты и ложились на диваны, чтобы немного прийти в себя; в эту пору капитан заходил к нам сообщить о направлении и силе ветра, о скорости передвижения судна и так далее, и выразить искреннее убеждение в том, что завтра ветер переменится (на море погода всегда обещает завтра стать лучше). Больше ему нечего было нам сообщить, так как солнце не показывалось, а значит вести наблюдения было невозможно. Впрочем, довольно будет описать один наш день, чтобы дать представление обо всех остальных. Вот это описание.