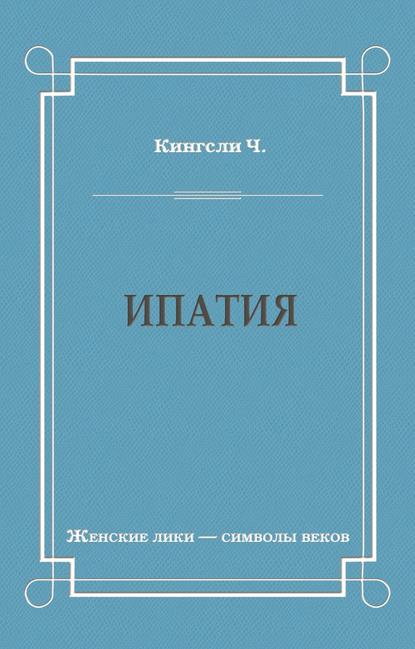По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ипатия
Автор
Жанр
Год написания книги
1853
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ипатия
Чарльз Кингсли
Женские лики – символы веков
Чарлз Кингсли (1819–1875) – англиканский священник, писатель, историк; один из основателей английского христианского социализма. Его творческое наследие состоит из романов, философских сочинений, проповедей, публицистики, лекций и т. д. Славу пастору как христианскому социалисту и писателю создали два социальных романа – «Дрожжи» и «Элтон Локк, портной и поэт», где ему удалось отобразить кризисные явления в традиционно консервативном сельском обществе и показать бедствия обитателей городских трущоб.
В данном томе публикуется его знаменитый роман «Ипатия» (1852–1853), повествующий об упорной борьбе александрийских христиан с язычниками в IV в. В центре романа – судьба одной из самых известных женщин того времени, философа и математика Ипатии, которая, понимая все несовершенство языческих верований, тем не менее отказалась принять учение Христа, поскольку убедилась в порочности служителей его церкви.
Чарлз Кингсли
Ипатия
Глава I
Лавра
Это было в 413 году христианского летоисчисления, за триста миль от Александрии. На склоне невысокой цепи скал, окруженных песчаными наносами, сидел молодой монах Филимон. Позади него расстилалась безжизненная, беспредельная пустыня, тусклый колорит которой отражался в прозрачном голубом небе. У его ног струился песок, заливая необъятными желтыми потоками лощины и холмы; порой, когда поднимался легкий летний ветерок, песок окутывал бурыми дымчатыми облаками всю окрестность. На гряде утесов, сгрудившихся стеной над узкой котловиной, виднелись кое-где высеченные в камне гробницы и огромные старые каменоломни с обелисками и незаконченными колоннами, так и оставшимися в том виде, в каком их бросили рабочие много веков тому назад. Вокруг них кучами лежал песок; кое-где он покрывал их верхушки словно инеем. Повсюду царило безмолвие и запустение: это была могила мертвого народа в умирающей стране.
Полный жизни, молодости, здоровья и красоты сидел Филимон, погрузившись в раздумье. Он казался юным Аполлоном пустыни. Единственным одеянием ему служила старая овчина, стянутая кожаным поясом. Его длинные черные волосы развевались и блестели на солнце; густой темный пух на щеках и подбородке говорил о здоровой цветущей молодости, жесткие мускулистые и загорелые руки свидетельствовали о труде и лишениях.
Что искало среди могил это прекрасное, юное человеческое существо?
Этот вопрос задавал, вероятно, и сам Филимон. Как будто отгоняя набегавшие грезы, он провел рукой по лбу и со вздохом приподнялся. Он стал бродить между скал, останавливаясь то у выступа, то над впадиной, ища дров для той обители, откуда он пришел.
Но даже и этого жалкого топлива, состоявшего по преимуществу из низкорослого сухого кустарника пустыни да деревянных брусьев из брошенных каменоломен, становилось мало около Сетской лавры. Чтобы набрать его, Филимону пришлось отойти от своего монастыря дальше, чем он это делал до сих пор.
У изгиба лощины его взорам представилось невиданное зрелище. Он увидел храм, высеченный в скале из песчаника, а перед храмом площадку, заваленную старыми бревнами и сгнившими орудиями. Кое-где в песке белели оголенные черепа, принадлежавшие, вероятно, мастеровым, убитым за работой во время одной из бесчисленных древних войн. Игумен Памва, духовный наставник Филимона и, в сущности, настоящий его отец, – ибо из воспоминаний детства у юноши не осталось ничего, кроме лавры и кельи старца, – строго воспретил ему приближаться к этим остаткам древнего языческого культа. Но к площадке вела широкая дорога, и множество топлива, видневшегося там, было настолько соблазнительно, что он не мог пройти мимо. Филимон хотел спуститься, набрать охапку и вернуться, а потом сообщить настоятелю о найденной сокровищнице и спросить его, разрешает ли он брать из нее и впредь.
Он начал спускаться, едва осмеливаясь смотреть на пестро окрашенные изваяния, красные и синие краски которых, не поврежденные ни временем, ни непогодой, ярко выступали на фоне мрачной пустыни. Но он был молод, а юность любопытна; и дьявол, по крайней мере в пятом столетии, – сильно смущал неопытные умы. Филимон слепо верил в дьявола и ревностно молился денно и нощно о спасении от его козней. Он перекрестился и от всего сердца воскликнул:
– Отврати взор мой, Господи, чтобы я не узрел эту суету сует!
А все-таки он взглянул… Да и кому бы удалось побороть искушение? Разве можно было оторвать взор от четырех исполинских изваяний царей, восседавших сурово и недвижно на своих тронах? Их огромные руки с непоколебимым спокойствием опирались о колени, а мощные головы, казалось, поддерживали гору. Чувство благоговейного трепета овладело молодым монахом. Он боялся нагнуться, боялся собирать дрова под строгим взглядом этих больших неподвижных очей.
Около их колен и около тронов были выгравированы мистические буквы, символы и изречения, – та древняя мудрость египтян, в которой был так сведущ Моисей, божий человек. Почему бы и Филимону не ознакомиться с ней? Не были ли скрыты в ней великие тайны прошлого, настоящего и будущего того обширного мира, о котором он еще так мало знал?
Миновав царственные изваяния, взор Филимона созерцал внутренность храма, – светлую бездну прохладных, зеленоватых теней, которые в анфиладе арок и пилястров сгущались постепенно в непроницаемую мглу. Смутно различал он на погруженных в таинственный полумрак колоннах и стенах великолепные арабески – длинные строки иллюстрированной летописи. Вот пленные в причудливых, своеобразных одеяниях ведут необычайных животных, нагруженных данью далеких стран; вот торжественные въезды триумфаторов, изображение общественных событий и работ; вот вереницы женщин, участвующих в празднестве. Что означало все это? Зачем целые века и тысячелетия просуществовал великий Божий мир, упиваясь, наедаясь и не зная ничего лучшего? Эти люди утратили истину за много столетий до их рождения… Христос был послан человечеству много веков после их смерти… Могли они знать что-либо высшее? Нет, не могли, но кара постигла их: все они в аду – все! Возможно ли примириться с этой мыслью? Несчастные миллионы людей вечно горели вследствие грехопадения Адама, – разве это божественное правосудие?
Подавленный множеством зловещих вопросов, детски неопределенных и неясных, юноша побрел назад, пока не показалась его обитель.
Лавра была выстроена в довольно приятном месте. Она представляла собой двойной ряд грубо сложенных циклопических келий, и ее окружала роща старых финиковых пальм, росших в вечной тени, у южного склона утесов. Находившаяся в скале пещера разветвлялась на несколько коридоров и служила часовней, складом и больницей. По залитому солнцем склону долины тянулись огороды общины, зеленевшие просом, маисом и бобами. Между ними извивался ручеек, тщательно вычищенный и окопанный; он доставлял необходимую влагу этому небольшому клочку земли, который добровольные труды иноков ревностно охраняли от вторжения всепоглощающих песков. Эта пашня была общим достоянием, как и все в лавре, за исключением каменных келий, принадлежащих отдельным братьям, и являлась источником радости и предметом заботы для каждого. Ради общего блага и для собственной пользы братья таскали в корзинах из пальмовых листьев черный ил с берега Нила; для общей пользы иноки счищали пески с утесов и сеяли на искусственно созданной почве зерно, собирая затем жатву, делившуюся между всеми. Чтобы приобретать одежду, книги, церковную утварь и все, что требовалось для житейского обихода, поучений и богослужения, братья занимались плетением корзин из пальмовых листьев. Старый монах выменивал эти изделия на другие предметы в более зажиточных монастырях противоположного берега. Каждую неделю перевозил Филимон старца в легком челноке из папируса и, поджидая его возвращения, ловил рыбу для общей трапезы.
Жизнь в лавре текла просто, счастливо и дружно, согласно с уставами и правилами, чтимыми и соблюдаемыми чуть ли не наравне со Священным Писанием. У каждого была пища, одежда, защита, друзья, советники и живая вера в промысел Божий.
А чего же еще нужно было человеку в те времена? Сюда люди бежали из древних городов, в сравнении с которыми Париж показался бы степенным, а Гоморра целомудренной; они спасались от тлетворного, адски испорченного умирающего мира тиранов и рабов, лицемеров и распутниц, чтобы на досуге безмятежно размышлять о долге и возмездии, о смерти и вечности, о рае и аде, чтобы обрести общую веру, общие обязанности, радости и горести.
– Ты поздно вернулся, сын мой, – произнес настоятель, не отрывая глаз от работы, когда к нему приблизился Филимон.
– Топливо стало редко попадаться; мне пришлось далеко идти.
– Монаху не подобает отвечать, когда его не спрашивают. Я не осведомлялся о причине. Но где ты нашел эти дрова?
– Перед храмом, очень далеко от нашей долины.
– Перед храмом? Что ты там видел?
Ответа не последовало, и Памва поднял на юношу свои проницательные черные глаза.
– Ты вошел в него, тебя влекло к его мерзостям?
– Я… я не входил… я только заглянул.
– И что ты увидел?.. Женщин?
Филимон молчал.
– Не запретил ли я тебе заглядывать в лицо женщины? Не прокляты ли они навеки вследствие непослушания их праматери, через которую зло проникло в мир? Женщина впервые растворила ворота ада и осталась доныне его привратницей. Несчастный отрок, что ты сделал?
– Они были только нарисованы на стене.
– Так, – произнес настоятель, как бы освободившись от тяжкого гнета. – Но почему ты знаешь, что то были женщины? Если ты не лгал, – а этого я не могу предположить, – то ведь ты еще никогда не видел облика дочери Евы.
– Быть может… быть может… – заговорил Филимон, останавливаясь с видимым облегчением на новой гипотезе, – быть может, то были лишь дьяволы. Это весьма вероятно, потому что они мне показались поразительно прекрасными.
– А-а… откуда же тебе известно, что дьяволы красивы?
– Когда на прошлой неделе мы с отцом Арсением оттолкнули лодку от берега, то увидели возле реки, не особенно близко, два существа с длинными волосами. Большая часть их тела пестрела черными, красными и желтыми полосами… они рвали цветы над водой. Отец Арсений сейчас же отвернулся от них, я же продолжал смотреть, потому что более красивых творений я еще не встречал… Я спросил, почему он отворачивается, и он мне сказал, что это дьяволы, которые искушали блаженного Антония. Позже я припомнил, что искушения приходили к святому подвижнику во образе прекрасной женщины… И вот… и вот… те изображения на стенах были похожи на них… Я подумал… не они ли…
Поняв, что он вот-вот покается в позорном смертном грехе, бедный юноша сильно покраснел, запнулся и замолчал.
– Они тебе понравились! О, безнадежная испорченность плоти! О, коварный враг человеческий! Да простит тебя Господь, мое бедное дитя, как я тебя прощаю. Но отныне ты не выйдешь из ограды нашего сада.
– Не выходить из ограды сада?! Я не могу! Не будь ты моим отцом, я бы сказал – не хочу! Мне нужна воля. Пусти меня! Я не тобой недоволен, а только самим собой. Я знаю, послушание – подвиг, но опасность еще благороднее. Ты видел свет, отчего же и мне не взглянуть на него? Если ты бежал, когда он тебе показался слишком дурным, то почему бы и мне не поступить так же, но по собственному свободному побуждению? Тогда я вновь вернусь сюда, чтобы впредь уже не расставаться с тобой. Но Кирилл[1 - Кирилл (кон. IV – перв. пол. V в.) – архиепископ Александрийский.] со своим духовенством ведь спасаются же…
Филимон, с трудом переводя дыхание, порывисто изливал эту страстную речь из самых глубин своего сердца.
Наконец он остановился и ждал, что удар доброго настоятеля вот-вот повергнет его на землю. Юноша претерпел бы это наказание с такой же покорностью, как и любой инок этой обители.
Старец дважды поднимал свой посох, чтобы ударить юношу, и дважды опускал его. Наконец он медленно встал и, покинув Филимона, упавшего на колени, направился к жилищу брата Арсения в глубоком раздумье, опустив глаза в землю. В лавре все почитали брата Арсения. Его окружала таинственность, усилившая обаяние его необыкновенной набожности и почти детского смирения и кротости. Во время своих уединенных прогулок монахи иногда шепотом говорили про него, что он прибыл из большого города, быть может, даже из Рима. Простые монахи гордились, что к их общине принадлежал человек, видевший столицу империи. Во всяком случае, настоятель Памва глубоко уважал его, никогда не бил и не делал ему выговоров, – впрочем, может быть, потому, что он не заслуживал ни того, ни другого. В эту минуту вся община подвижников занималась плетением корзин и каждый сидел перед своей кельей. Они видели, как настоятель, очень раздраженный, отошел от коленопреклоненного преступника и поспешил к жилищу мудрого старца. Очевидно, произошло нечто чрезвычайное, грозившее общему их благу.
Более часа пробыл настоятель у Арсения. Они беседовали тихо и вдумчиво. Потом раздалось торжественное гудение, какое слышится тогда, когда двое стариков молятся со слезами и рыданиями.
Филимон все еще неподвижно стоял на коленях. Его душа была переполнена; но чем – он не мог бы сказать. «Сердце знает свое горе, и не войти постороннему в радость его».
Памва вернулся задумчивый и безмолвный. Опустившись на сиденье, он обратился к Филимону:
– «И сказал младший из них отцу: “Отче, дай мне следуемую мне часть имения…” По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил свое имение, живя распутно»… Ты уйдешь, сын мой, но сперва последуешь за мной и поговоришь с Арсением.
Филимон, как и прочая братия, любил Арсения, и, когда настоятель ушел, оставив их наедине, он не ощутил ни стыда, ни боязни и раскрыл перед ним всю свою душу… Он говорил долго и страстно, возражая на кроткие вопросы старца, который прерывал юношу без строгости и напыщенной педантичности монаха и с детской незлобивостью позволял Филимону перебивать его речь. Но в звуке его голоса сквозила грусть, когда он отвечал на мольбы молодого инока.
Чарльз Кингсли
Женские лики – символы веков
Чарлз Кингсли (1819–1875) – англиканский священник, писатель, историк; один из основателей английского христианского социализма. Его творческое наследие состоит из романов, философских сочинений, проповедей, публицистики, лекций и т. д. Славу пастору как христианскому социалисту и писателю создали два социальных романа – «Дрожжи» и «Элтон Локк, портной и поэт», где ему удалось отобразить кризисные явления в традиционно консервативном сельском обществе и показать бедствия обитателей городских трущоб.
В данном томе публикуется его знаменитый роман «Ипатия» (1852–1853), повествующий об упорной борьбе александрийских христиан с язычниками в IV в. В центре романа – судьба одной из самых известных женщин того времени, философа и математика Ипатии, которая, понимая все несовершенство языческих верований, тем не менее отказалась принять учение Христа, поскольку убедилась в порочности служителей его церкви.
Чарлз Кингсли
Ипатия
Глава I
Лавра
Это было в 413 году христианского летоисчисления, за триста миль от Александрии. На склоне невысокой цепи скал, окруженных песчаными наносами, сидел молодой монах Филимон. Позади него расстилалась безжизненная, беспредельная пустыня, тусклый колорит которой отражался в прозрачном голубом небе. У его ног струился песок, заливая необъятными желтыми потоками лощины и холмы; порой, когда поднимался легкий летний ветерок, песок окутывал бурыми дымчатыми облаками всю окрестность. На гряде утесов, сгрудившихся стеной над узкой котловиной, виднелись кое-где высеченные в камне гробницы и огромные старые каменоломни с обелисками и незаконченными колоннами, так и оставшимися в том виде, в каком их бросили рабочие много веков тому назад. Вокруг них кучами лежал песок; кое-где он покрывал их верхушки словно инеем. Повсюду царило безмолвие и запустение: это была могила мертвого народа в умирающей стране.
Полный жизни, молодости, здоровья и красоты сидел Филимон, погрузившись в раздумье. Он казался юным Аполлоном пустыни. Единственным одеянием ему служила старая овчина, стянутая кожаным поясом. Его длинные черные волосы развевались и блестели на солнце; густой темный пух на щеках и подбородке говорил о здоровой цветущей молодости, жесткие мускулистые и загорелые руки свидетельствовали о труде и лишениях.
Что искало среди могил это прекрасное, юное человеческое существо?
Этот вопрос задавал, вероятно, и сам Филимон. Как будто отгоняя набегавшие грезы, он провел рукой по лбу и со вздохом приподнялся. Он стал бродить между скал, останавливаясь то у выступа, то над впадиной, ища дров для той обители, откуда он пришел.
Но даже и этого жалкого топлива, состоявшего по преимуществу из низкорослого сухого кустарника пустыни да деревянных брусьев из брошенных каменоломен, становилось мало около Сетской лавры. Чтобы набрать его, Филимону пришлось отойти от своего монастыря дальше, чем он это делал до сих пор.
У изгиба лощины его взорам представилось невиданное зрелище. Он увидел храм, высеченный в скале из песчаника, а перед храмом площадку, заваленную старыми бревнами и сгнившими орудиями. Кое-где в песке белели оголенные черепа, принадлежавшие, вероятно, мастеровым, убитым за работой во время одной из бесчисленных древних войн. Игумен Памва, духовный наставник Филимона и, в сущности, настоящий его отец, – ибо из воспоминаний детства у юноши не осталось ничего, кроме лавры и кельи старца, – строго воспретил ему приближаться к этим остаткам древнего языческого культа. Но к площадке вела широкая дорога, и множество топлива, видневшегося там, было настолько соблазнительно, что он не мог пройти мимо. Филимон хотел спуститься, набрать охапку и вернуться, а потом сообщить настоятелю о найденной сокровищнице и спросить его, разрешает ли он брать из нее и впредь.
Он начал спускаться, едва осмеливаясь смотреть на пестро окрашенные изваяния, красные и синие краски которых, не поврежденные ни временем, ни непогодой, ярко выступали на фоне мрачной пустыни. Но он был молод, а юность любопытна; и дьявол, по крайней мере в пятом столетии, – сильно смущал неопытные умы. Филимон слепо верил в дьявола и ревностно молился денно и нощно о спасении от его козней. Он перекрестился и от всего сердца воскликнул:
– Отврати взор мой, Господи, чтобы я не узрел эту суету сует!
А все-таки он взглянул… Да и кому бы удалось побороть искушение? Разве можно было оторвать взор от четырех исполинских изваяний царей, восседавших сурово и недвижно на своих тронах? Их огромные руки с непоколебимым спокойствием опирались о колени, а мощные головы, казалось, поддерживали гору. Чувство благоговейного трепета овладело молодым монахом. Он боялся нагнуться, боялся собирать дрова под строгим взглядом этих больших неподвижных очей.
Около их колен и около тронов были выгравированы мистические буквы, символы и изречения, – та древняя мудрость египтян, в которой был так сведущ Моисей, божий человек. Почему бы и Филимону не ознакомиться с ней? Не были ли скрыты в ней великие тайны прошлого, настоящего и будущего того обширного мира, о котором он еще так мало знал?
Миновав царственные изваяния, взор Филимона созерцал внутренность храма, – светлую бездну прохладных, зеленоватых теней, которые в анфиладе арок и пилястров сгущались постепенно в непроницаемую мглу. Смутно различал он на погруженных в таинственный полумрак колоннах и стенах великолепные арабески – длинные строки иллюстрированной летописи. Вот пленные в причудливых, своеобразных одеяниях ведут необычайных животных, нагруженных данью далеких стран; вот торжественные въезды триумфаторов, изображение общественных событий и работ; вот вереницы женщин, участвующих в празднестве. Что означало все это? Зачем целые века и тысячелетия просуществовал великий Божий мир, упиваясь, наедаясь и не зная ничего лучшего? Эти люди утратили истину за много столетий до их рождения… Христос был послан человечеству много веков после их смерти… Могли они знать что-либо высшее? Нет, не могли, но кара постигла их: все они в аду – все! Возможно ли примириться с этой мыслью? Несчастные миллионы людей вечно горели вследствие грехопадения Адама, – разве это божественное правосудие?
Подавленный множеством зловещих вопросов, детски неопределенных и неясных, юноша побрел назад, пока не показалась его обитель.
Лавра была выстроена в довольно приятном месте. Она представляла собой двойной ряд грубо сложенных циклопических келий, и ее окружала роща старых финиковых пальм, росших в вечной тени, у южного склона утесов. Находившаяся в скале пещера разветвлялась на несколько коридоров и служила часовней, складом и больницей. По залитому солнцем склону долины тянулись огороды общины, зеленевшие просом, маисом и бобами. Между ними извивался ручеек, тщательно вычищенный и окопанный; он доставлял необходимую влагу этому небольшому клочку земли, который добровольные труды иноков ревностно охраняли от вторжения всепоглощающих песков. Эта пашня была общим достоянием, как и все в лавре, за исключением каменных келий, принадлежащих отдельным братьям, и являлась источником радости и предметом заботы для каждого. Ради общего блага и для собственной пользы братья таскали в корзинах из пальмовых листьев черный ил с берега Нила; для общей пользы иноки счищали пески с утесов и сеяли на искусственно созданной почве зерно, собирая затем жатву, делившуюся между всеми. Чтобы приобретать одежду, книги, церковную утварь и все, что требовалось для житейского обихода, поучений и богослужения, братья занимались плетением корзин из пальмовых листьев. Старый монах выменивал эти изделия на другие предметы в более зажиточных монастырях противоположного берега. Каждую неделю перевозил Филимон старца в легком челноке из папируса и, поджидая его возвращения, ловил рыбу для общей трапезы.
Жизнь в лавре текла просто, счастливо и дружно, согласно с уставами и правилами, чтимыми и соблюдаемыми чуть ли не наравне со Священным Писанием. У каждого была пища, одежда, защита, друзья, советники и живая вера в промысел Божий.
А чего же еще нужно было человеку в те времена? Сюда люди бежали из древних городов, в сравнении с которыми Париж показался бы степенным, а Гоморра целомудренной; они спасались от тлетворного, адски испорченного умирающего мира тиранов и рабов, лицемеров и распутниц, чтобы на досуге безмятежно размышлять о долге и возмездии, о смерти и вечности, о рае и аде, чтобы обрести общую веру, общие обязанности, радости и горести.
– Ты поздно вернулся, сын мой, – произнес настоятель, не отрывая глаз от работы, когда к нему приблизился Филимон.
– Топливо стало редко попадаться; мне пришлось далеко идти.
– Монаху не подобает отвечать, когда его не спрашивают. Я не осведомлялся о причине. Но где ты нашел эти дрова?
– Перед храмом, очень далеко от нашей долины.
– Перед храмом? Что ты там видел?
Ответа не последовало, и Памва поднял на юношу свои проницательные черные глаза.
– Ты вошел в него, тебя влекло к его мерзостям?
– Я… я не входил… я только заглянул.
– И что ты увидел?.. Женщин?
Филимон молчал.
– Не запретил ли я тебе заглядывать в лицо женщины? Не прокляты ли они навеки вследствие непослушания их праматери, через которую зло проникло в мир? Женщина впервые растворила ворота ада и осталась доныне его привратницей. Несчастный отрок, что ты сделал?
– Они были только нарисованы на стене.
– Так, – произнес настоятель, как бы освободившись от тяжкого гнета. – Но почему ты знаешь, что то были женщины? Если ты не лгал, – а этого я не могу предположить, – то ведь ты еще никогда не видел облика дочери Евы.
– Быть может… быть может… – заговорил Филимон, останавливаясь с видимым облегчением на новой гипотезе, – быть может, то были лишь дьяволы. Это весьма вероятно, потому что они мне показались поразительно прекрасными.
– А-а… откуда же тебе известно, что дьяволы красивы?
– Когда на прошлой неделе мы с отцом Арсением оттолкнули лодку от берега, то увидели возле реки, не особенно близко, два существа с длинными волосами. Большая часть их тела пестрела черными, красными и желтыми полосами… они рвали цветы над водой. Отец Арсений сейчас же отвернулся от них, я же продолжал смотреть, потому что более красивых творений я еще не встречал… Я спросил, почему он отворачивается, и он мне сказал, что это дьяволы, которые искушали блаженного Антония. Позже я припомнил, что искушения приходили к святому подвижнику во образе прекрасной женщины… И вот… и вот… те изображения на стенах были похожи на них… Я подумал… не они ли…
Поняв, что он вот-вот покается в позорном смертном грехе, бедный юноша сильно покраснел, запнулся и замолчал.
– Они тебе понравились! О, безнадежная испорченность плоти! О, коварный враг человеческий! Да простит тебя Господь, мое бедное дитя, как я тебя прощаю. Но отныне ты не выйдешь из ограды нашего сада.
– Не выходить из ограды сада?! Я не могу! Не будь ты моим отцом, я бы сказал – не хочу! Мне нужна воля. Пусти меня! Я не тобой недоволен, а только самим собой. Я знаю, послушание – подвиг, но опасность еще благороднее. Ты видел свет, отчего же и мне не взглянуть на него? Если ты бежал, когда он тебе показался слишком дурным, то почему бы и мне не поступить так же, но по собственному свободному побуждению? Тогда я вновь вернусь сюда, чтобы впредь уже не расставаться с тобой. Но Кирилл[1 - Кирилл (кон. IV – перв. пол. V в.) – архиепископ Александрийский.] со своим духовенством ведь спасаются же…
Филимон, с трудом переводя дыхание, порывисто изливал эту страстную речь из самых глубин своего сердца.
Наконец он остановился и ждал, что удар доброго настоятеля вот-вот повергнет его на землю. Юноша претерпел бы это наказание с такой же покорностью, как и любой инок этой обители.
Старец дважды поднимал свой посох, чтобы ударить юношу, и дважды опускал его. Наконец он медленно встал и, покинув Филимона, упавшего на колени, направился к жилищу брата Арсения в глубоком раздумье, опустив глаза в землю. В лавре все почитали брата Арсения. Его окружала таинственность, усилившая обаяние его необыкновенной набожности и почти детского смирения и кротости. Во время своих уединенных прогулок монахи иногда шепотом говорили про него, что он прибыл из большого города, быть может, даже из Рима. Простые монахи гордились, что к их общине принадлежал человек, видевший столицу империи. Во всяком случае, настоятель Памва глубоко уважал его, никогда не бил и не делал ему выговоров, – впрочем, может быть, потому, что он не заслуживал ни того, ни другого. В эту минуту вся община подвижников занималась плетением корзин и каждый сидел перед своей кельей. Они видели, как настоятель, очень раздраженный, отошел от коленопреклоненного преступника и поспешил к жилищу мудрого старца. Очевидно, произошло нечто чрезвычайное, грозившее общему их благу.
Более часа пробыл настоятель у Арсения. Они беседовали тихо и вдумчиво. Потом раздалось торжественное гудение, какое слышится тогда, когда двое стариков молятся со слезами и рыданиями.
Филимон все еще неподвижно стоял на коленях. Его душа была переполнена; но чем – он не мог бы сказать. «Сердце знает свое горе, и не войти постороннему в радость его».
Памва вернулся задумчивый и безмолвный. Опустившись на сиденье, он обратился к Филимону:
– «И сказал младший из них отцу: “Отче, дай мне следуемую мне часть имения…” По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил свое имение, живя распутно»… Ты уйдешь, сын мой, но сперва последуешь за мной и поговоришь с Арсением.
Филимон, как и прочая братия, любил Арсения, и, когда настоятель ушел, оставив их наедине, он не ощутил ни стыда, ни боязни и раскрыл перед ним всю свою душу… Он говорил долго и страстно, возражая на кроткие вопросы старца, который прерывал юношу без строгости и напыщенной педантичности монаха и с детской незлобивостью позволял Филимону перебивать его речь. Но в звуке его голоса сквозила грусть, когда он отвечал на мольбы молодого инока.