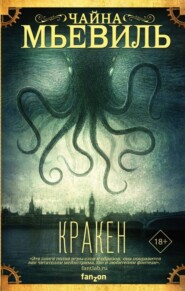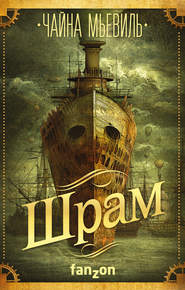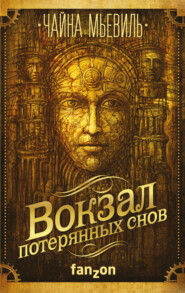По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Посольский город
Автор
Год написания книги
2011
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь я знаю, что сделанное мною тогда называется диссассоциацией. Я наблюдала за всем, что происходило, в том числе и за собой. Мне не терпелось, чтобы все поскорее кончилось; я ничего не чувствовала, никакого усиления связи между Хозяевами и мною. Я только наблюдала. Выполняя действия, необходимые для того, чтобы потом они могли произносить свое сравнение, я думала о Брене. Он, разумеется, не мог больше говорить с Хозяевами. Событие организовало посольство, и я считала, что бывшие коллеги Брена, послы, наверное, были рады дать ему возможность помочь. Но поручили они ему какую-нибудь настоящую работу или нет, я не знаю.
Когда все кончилось и я вернулась в юношеский центр, друзья накинулись на меня, требуя подробностей. Мы ведь были дикие, как все послоградские дети.
– Ты была с Хозяевами? Круто, Авви! Честно? Честно, как Хозяин?
– Честно, как Хозяин, – произнесла я подходящую случаю клятву.
– Ничего себе. А что они делали? – Я показала синяки. Мне и хотелось и не хотелось говорить об этом. Постепенно я полюбила пересказывать то происшествие, привирая и приукрашивая его. Оно много дней выделяло меня среди остальных.
Другое следствие оказалось важнее. Два дня спустя папа Реншо отвел меня к Брену. Я не была в его доме с того случая с Йогном. Брен улыбнулся, поздоровался и провел меня внутрь, где я впервые в жизни повстречала послов.
Одежды красивее, чем у них, я никогда ни у кого не видела. Их обручи сверкали, их огоньки мигали в одном ритме с полями, которые они генерировали. Я была потрясена. Их было трое, и в комнате стало очень тесно. Тем более что позади них, двигаясь из стороны в сторону, перешептываясь то с Бреном, то с кем-то из послов, находился автом, компьютер с сегментированным корпусом, женское лицо которого оживлялось с каждой сказанной фразой. Я видела, что послы стараются тепло говорить со мной, ребенком, как раньше старался Брен, но опыта им не хватает.
Женщины постарше спросили:
– Ависа Беннер Чо, верно? – Голос у них был изумительный, величественный. – Подойди. Сядь. Мы хотим поблагодарить тебя. Мы думаем, тебе следует услышать, как тебя канонизировали.
Послы заговорили со мной на языке Хозяев. Они произносили меня: они говорили меня. Они предупредили меня, что прямой перевод сравнения окажется неточным и обманчивым. Одна человеческая девочка, которая, превозмогая боль, съела то, что ей дали, в комнате, предназначенной для еды, где давно никто не ел.
– Со временем оно сократится, – сказал мне Брен. – Скоро тебя будут говорить как девочку, которая съела то, что ей дали.
– Что это значит, скажите, пожалуйста?
Они качали головами, поджимали губы.
– Не имеет значения, Ависа, – сказала одна из них. Она пошепталась с компьютером, и я видела, как опустилось в кивке созданное им для себя лицо.
– Кроме того, это все равно будет неточно. – Я спросила еще раз, иначе, но они больше не желали об этом говорить. И все поздравляли меня с тем, что я стала частью Языка.
Дважды за время моего отрочества я слышала, как говорят меня, мое сравнение: один раз это был посол, другой – Хозяин. Годы, тысячи часов спустя после того, как я исполнила это сравнение, мне его, наконец, вроде как объяснили. Передача, конечно, грубовата, но, по-моему, им пользуются с некоторой долей удивления и иронии, когда хотят выразить обиду и подчинение судьбе.
За все мое детство и юность я больше ни разу не говорила с Бреном, но, как я выяснила, он приходил к моим дежурным родителям еще раз. Уверена, что именно моя помощь в создании фигуры речи и неявное покровительство Брена помогли мне пройти экзамены. Я много занималась, но интеллектуалкой не была никогда. Я обладала качествами, необходимыми для иммерлетчика, но не больше, чем остальные, кто экзаменовался со мной, и даже меньше, чем иные из тех, кто не прошел. Карты на выезд получили немногие гражданские и те из нас, кто проявил способность путешествовать в иммере, не впадая в сон. Не было никаких особых причин, почему несколько месяцев спустя, когда все тесты были пройдены и мои способности признаны, мне все же дали право покинуть мой мир и выйти вовне.
0.3
Каждый учебный год во втором подмесяце декабря устраивались испытания. В основном для того, чтобы установить, что мы узнали за год занятий; но отчасти с целью выявить более редкие способности. Мало кто из нас обладал дарованиями, столь высоко ценимыми в других местах, снаружи. Нам говорили, что мы, послоградские, не той породы: у нас неправильные мутагены, неподходящий аппарат, да и стремления к высокому не хватает. Многие дети к самым заковыристым экзаменам даже готовиться не стали, но мое стремление держать их нашло поддержку. Полагаю, это значит, что мои учителя и дежурные родители видели во мне какие-то задатки.
С большинством предметов я справилась на «отлично»; «хорошо» получила по риторике и творческому заданию по литературе, что меня порадовало, а также за чтение стихов. Но оказалось, что наиболее выдающиеся результаты я, сама того не подозревая, показала в испытаниях, об истинной цели которых даже не догадывалась. Я разглядывала задания на экране причудливого плазменного монитора. Каждое нужно было выполнять по-своему. Вся процедура занимала около часа и походила на игру, так что скучно мне не было. Я перешла к следующим заданиям, которые проверяли не знания, а реакции, интуицию, контроль внутреннего уха, нервозность. Их главной целью было выявление потенциальных иммерлетчиков.
Проводившая эти испытания женщина, молодая, в модной снаружи шикарной одежде, взятой взаймы, выменянной или выпрошенной у бременских служащих посольства, просмотрела вместе со мной мои результаты и объяснила мне, что они означают. Я видела, что они произвели на нее кое-какое впечатление. Без жестокости, но настойчиво, желая уберечь меня от возможных будущих огорчений, она повторяла мне, что выводы делать рано и что это лишь первая ступень из многих. Но пока она мне все это объясняла, я уже решила, что стану иммерлетчицей, и стала. Тогда я только начинала ощущать узость Послограда, брюзжать на его тесноту, но после результатов экзамена мое нетерпение усилилось.
Став старше, я обманными путями добывала себе пригласительные билеты на Балы Прибытия, где втиралась в компанию мужчин и женщин извне. Кажущееся безразличие, с которым они перебрасывались названиями стран и планет, будило во мне удовольствие и зависть.
Лишь килочасы, или годы спустя, я поняла, что моя судьба вовсе не была предначертана заранее. Что многие студенты, более способные, чем я, потерпели поражение; что и у меня могло не получиться улететь. Моя история была типична, как волшебная сказка, их сюжеты были более просты и правдивы. От этой случайности меня даже затошнило, как будто я все еще могла провалить экзамен и остаться, хотя я давно уже жила вовне.
Даже те, кто никогда не погружался, уверены, что знают – по крайней мере, представляют себе, как они говорят, – что такое иммер. Ничего подобного. Однажды мы поспорили об этом со Скайлом. Во время нашего второго разговора (первый был о языке). Он полез со своими суждениями, а я ответила, что меня не интересует, как привязанный к земле представляет себе иммер. Мы лежали в постели, и он подразнивал меня, пока я распространялась о его невежестве.
– О чем ты? – сказал он. – Ты же сама не веришь в то, что говоришь; ты слишком умна для этого. Ты просто травишь мне ваши иммерлетчицкие байки. Знаем, слышали. «Никто, ни ученые, ни политики, а уж тем более чертовы гражданские, не понимают этого так, как мы!» Любите вы нос задирать. Только чтобы отбить у людей охоту лезть в ваши дела.
Я даже расхохоталась, так он кипятился. И все же, сказала я ему, все же иммер неописуем. Но он и тут стал со мной спорить.
– Никого ты этим не обманешь. Думаешь, я не прислушивался к тому, как ты говоришь? Знаю, знаю, твое дело не болтовня, ты же у нас простой флокер, бла-бла-бла. Как будто ты не читаешь стихов, а язык принимаешь как данность. – Он покачал головой. – Короче, если все будут рассуждать так, как ты, я скоро без работы останусь. «Неописуем», как же. Ничего неописуемого не бывает.
Я прижала ладонь к его рту. Тем не менее, так оно и есть, сказала я ему.
– Пусть считается, – продолжал он говорить сквозь мои пальцы все тем же лекторским тоном, хотя и глухо, – что слова не могут быть референтами, тут я с тобой согласен, в этом трагедия языка, однако наши асимптотические попытки их употребления тоже нельзя сбрасывать со счетов. – Я сказала ему, чтобы он заткнулся. Сказала, что это правда и что я говорю это ему, как Хозяин.
– Ну что ж, – ответил он. – Перед лицом истины отступаю.
Я долго изучала иммер, и все же мое первое погружение в него невозможно описать, и я на этом настаиваю. Вместе с горсткой других членов команды и иммигрантов, получивших карты на вылет, а также со служителями посольства из Бремена, которые, закончив дела, возвращались домой, меня привезли к моему кораблю на кече. Мое первое назначение было на «Осу Колькаты». Этот квази-автономный корабль-город, погружавшийся под собственным флагом, был зафрахтован на один рейс Дагостином. Помню, как я вместе с другими новичками стояла в называвшемся «вороньим гнездом» наблюдательном пункте и следила за тем, как огромной стеной проплывала мимо нас Ариека, пока наш корабль медленно и осторожно двигался по небу в точку, откуда начнется наше погружение. Там, под иллюзорно неподвижным облачным пологом ее неба, остался Послоград.
Штурман подвел нас вплотную к Руинам. Разглядеть их было трудно. Сначала они походили на линии, прочерченные в пространстве, и вдруг мгновенно облеклись скудной плотью. Она то редела, то вновь уплотнялась. Оказалось, что в поперечнике они имеют несколько сот метров. Руины вращались, каждый их выступ двигался, причем согласно собственной программе, вся их капельно-решетчатая филигранная структура описывала сложную спираль.
По строению Руины напоминали «Осу», но были не в пример древнее и казались в несколько раз больше. Было похоже, что они – это оригинал, а мы – их уменьшенная копия, пока вдруг они не повернулись к нам другой плоскостью и не стали меньше, или просто отдалились. Они то совсем скрывались из виду, то показывались отчасти.
Офицеры, блестя подкожными приращениями, напомнили нам, новичкам, о том, что мы собираемся делать, и о том, чем опасно погружение. Они, Руины, демонстрируют это и то, почему Ариека так и осталась аванпостом, недоступным, недоразвитым, лишенным спутников после той первой катастрофы.
Я бы действовала профессионально. Да, я готовилась к своему первому погружению, но я выполнила бы все приказы и думаю, что не допустила бы ни одной ошибки. Но офицеры помнили, что значит быть новобранцем, и посадили нас, кучку неопытных иммерлетчиков, в кресла наблюдателей. Сидя в них, мы могли реагировать, когда нужно, однако никакое количество тренировок не гарантировало нас от тошноты в самый первый раз. Когда выдавалась свободная минута и можно было понаблюдать и предаться восхищению, мы предавались восхищению. В иммере есть течения и грозовые фронты. В иммере есть отрезки, пересечь которые можно, обладая лишь бесконечным умением и почти бесконечным временем. Именно техники, которыми я владею сейчас, плюс соматический контроль, мантрическая отрешенность и инструментализированный прозаизм, которые сделали из меня иммерлетчика, позволяют иммерлетчикам сохранять ясное сознание и работоспособность при погружении.
По карте до Дагостина или любого другого центра не так уж много миллиардов километров. Только этими Евклидовыми звездными картами пользуются лишь космологи, некоторые экзотерры с непонятной нам физикой да религиозные номады, мучительно дрейфующие на скоростях, не достигающих скорости света. Я была потрясена, когда увидела их впервые, – в Послограде карты не были общедоступными – однако к путешественникам вроде меня они вообще не имеют отношения.
Взгляните лучше на карту иммера. Перед вами огромная изменчивая сущность. Вы можете тянуть ее, вращать, измерять ее проекции. Разглядывайте этот световой фантом как угодно, и даже с учетом того, что это будет плоское или трехмерное воспроизведение топоса, который противится нашим попыткам его понять, ситуация все равно будет качественно иной.
Пространство иммера не совпадает с измерениями обыденного, с тем миром, в котором мы живем. Самое точное, что можно о нем сказать, это что иммер подстилает нашу действительность или покрывает ее, пропитывает, служит основой, соотносится с ней, как язык с речью, и так далее. Здесь, в повседневном, в мире световых десятилетий и петаметров, Дагостин куда дальше отстоит от Тарска и Ходжсона, чем от Ариеки. Но в иммере от Дагостина до Тарска всего несколько сотен часов при хорошем ветре; Ходжсон лежит в центре спокойных и густо населенных глубин; а от Ариеки вообще никуда не добраться, так она далека.
Она за порогами, там, где неистовые течения иммера сшибаются друг с другом, там, где материя повседневного прорывается в вечное, образуя отмели, коварные выступы и банки. Она одиноко притулилась на самом краю познанного иммера, насколько он вообще может быть познан. Без опыта, отваги и умения иммерлетчиков никто никогда не попал бы в мой мир.
При первом же взгляде на его карты становится ясно, почему так суровы выпускные экзамены, которые мы сдавали. На одних способностях там далеко не уедешь. Политика исключения тоже, конечно, имеет место: понятно, что бременцы хотят держать нас, послоградцев, под строгим контролем; и все равно лишь самая умелая команда может спокойно добраться до Ариеки или улететь с нее. Некоторым из нас вставляли специальные разъемы, чтобы подключаться к повседневным программам корабля, иммер-программы и приращения тоже помогали; но их одних недостаточно, чтобы сделать из человека иммерлетчика.
Послушать офицеров, так могло показаться, будто остов Пионера, который мне пришлось перестать называть Руинами, когда я узнала, что это не звезда, а гроб для моих коллег, был своего рода предупреждением лентяям. Но это было бы несправедливо. Пионер застрял между двумя мирами вовсе не потому, что его экипаж или офицеры недооценили иммер: напротив, осторожность и уважительное отношение исследователей привело к катастрофе. Как и многие другие корабли на торных путях иммера, он попал в ловушку, когда все только начиналось. Его заманило на верную гибель то, что люди считали посланием, зовом.
Когда иммернавты впервые подрезали сухожилия обычному пространству, среди многих поразивших их феноменов был и тот, что все они, хотя и пользовались достаточно примитивными инструментами, регулярно получали сигналы откуда-то из непространства. Четкие и явственные, они могли быть посланы только разумными существами. Иммернавты пытались добраться до их источников. Долгое время считалось, что недостаток навыков, отсутствие опыта погружений постоянно приводили к крушениям кораблей, отправлявшихся на такие поиски. Раз за разом они превращались в руины, застряв на полпути из иммера в материальную повседневность.
Пионер был потерей времен, предшествовавших пониманию того, что сигналы посылали маяки. Это был не зов. То, что манило к себе корабли, на деле было предупреждением: не приближайтесь.
Итак, маяки расставлены по всему иммеру. Не все опасные зоны отмечены ими, но все же. Похоже, что их возраст равен возрасту этой вселенной, которых тоже было несколько. Молитва, которую часто шепчут иммерлетчики перед погружением, обращена к тем неведомым, кто их поставил. Милостивые Фаротектоны, храните нас.
Фарос Ариеки я впервые увидела не тогда, а много тысяч часов спустя. Точнее говоря, я его, конечно, не видела, да и не могла увидеть; для этого понадобился бы свет, отражение и иная физика, которой нет в иммере. Но я видела представление о нем, переданное окнами корабля.
Специальное оборудование в корабельных иллюминаторах рисует иммер и все, что в нем есть, в образах, доступных восприятию команды. Я видела маяки похожими на сложные узлы, на контуры, заполненные перекрестной штриховкой. Когда я возвращалась в Послоград, капитан корабля, на котором я летела, сделал мне подарок: перевел оборудование иллюминаторов в режим картинки – приближаясь к заусенцам иммера, за которыми начиналась штормовая зона, окружающая Ариеку, я увидела луч света во фрактале темноты, луч двигался к нам, поворачиваясь вместе со своим источником. И когда посреди непространства мы увидели маяк, он оказался кирпичным, с вершиной из стекла и бронзы.
Я рассказала об этом Скайлу при нашей первой встрече, и Скайл, которому вскоре суждено было стать моим мужем, захотел, чтобы я описала свое первое погружение. Конечно, он и сам путешествовал в иммере – он не был уроженцем того мира, где мы с ним делили постель, – но, как пассажир скромного достатка и ограниченной выносливости, спал все время пути. Хотя однажды, как он мне сказал, он заплатил кому-то, чтобы его разбудили пораньше и он мог испытать погружение. (Я о таком тоже слышала. Но команде запрещено это делать, и пассажиров будят только там, где мелко.) Потом Скайла ужасно тошнило.
Что я могла ему рассказать? В тот первый раз, когда «Оса», поплескавшись, погрузилась, я была под защитой поля повседневного, и иммер меня даже не задел. По правде говоря, теснее связь с иммером я ощущала в Послограде, когда стажеркой садилась в гнездо иммерскопа и тот вдвигался в его пространство, как пустой стакан, который опускают в воду донышком вниз. Вот тогда я заглядывала в его глубину, видела его совсем близко, и это изменило меня. Но и тогда я не смогла бы ничего описать, даже если бы меня попросили.
«Оса» входила в иммер жестко. У меня не было опыта, но, сжав зубы, я справилась с тошнотой, которая накатила, несмотря на все тренировки. Даже в нежных объятиях поля повседневного я ощущала каждый рывок непривычного ускорения, когда мы входили туда, где нет направлений, а принесенный нами обманчивый пузырь гравитации, как мог, амортизировал толчки. Но я слишком волновалась и не могла не корить себя за то, что дала волю восторгу. Это пришло позже, когда с привилегиями новичков было покончено и началась бешеная работа начального этапа погружения, и даже еще позже, когда она завершилась и корабль вышел на походную глубину.
Мы, иммерлетчики, умеем не только сохранять стабильность, сознание и здоровье во время погружения, мы не просто не утрачиваем способности ходить и говорить, питаться и испражняться, слушать и отдавать приказы, принимать решения и работать с параинформацией, приближающей расстояния и условия иммера к привычным, не сходя при этом с ума от близости вечного. Хотя и это уже не мало. Дело еще в том, что нам присуща, как утверждают одни (и опровергают другие), определенная неразвитость воображения, которая не дает иммеру заворожить нас собой до полного бесчувствия. Чтобы путешествовать в иммере, мы изучили его капризы, а знание, полученное одним человеком, всегда может усвоить и другой.
Когда все кончилось и я вернулась в юношеский центр, друзья накинулись на меня, требуя подробностей. Мы ведь были дикие, как все послоградские дети.
– Ты была с Хозяевами? Круто, Авви! Честно? Честно, как Хозяин?
– Честно, как Хозяин, – произнесла я подходящую случаю клятву.
– Ничего себе. А что они делали? – Я показала синяки. Мне и хотелось и не хотелось говорить об этом. Постепенно я полюбила пересказывать то происшествие, привирая и приукрашивая его. Оно много дней выделяло меня среди остальных.
Другое следствие оказалось важнее. Два дня спустя папа Реншо отвел меня к Брену. Я не была в его доме с того случая с Йогном. Брен улыбнулся, поздоровался и провел меня внутрь, где я впервые в жизни повстречала послов.
Одежды красивее, чем у них, я никогда ни у кого не видела. Их обручи сверкали, их огоньки мигали в одном ритме с полями, которые они генерировали. Я была потрясена. Их было трое, и в комнате стало очень тесно. Тем более что позади них, двигаясь из стороны в сторону, перешептываясь то с Бреном, то с кем-то из послов, находился автом, компьютер с сегментированным корпусом, женское лицо которого оживлялось с каждой сказанной фразой. Я видела, что послы стараются тепло говорить со мной, ребенком, как раньше старался Брен, но опыта им не хватает.
Женщины постарше спросили:
– Ависа Беннер Чо, верно? – Голос у них был изумительный, величественный. – Подойди. Сядь. Мы хотим поблагодарить тебя. Мы думаем, тебе следует услышать, как тебя канонизировали.
Послы заговорили со мной на языке Хозяев. Они произносили меня: они говорили меня. Они предупредили меня, что прямой перевод сравнения окажется неточным и обманчивым. Одна человеческая девочка, которая, превозмогая боль, съела то, что ей дали, в комнате, предназначенной для еды, где давно никто не ел.
– Со временем оно сократится, – сказал мне Брен. – Скоро тебя будут говорить как девочку, которая съела то, что ей дали.
– Что это значит, скажите, пожалуйста?
Они качали головами, поджимали губы.
– Не имеет значения, Ависа, – сказала одна из них. Она пошепталась с компьютером, и я видела, как опустилось в кивке созданное им для себя лицо.
– Кроме того, это все равно будет неточно. – Я спросила еще раз, иначе, но они больше не желали об этом говорить. И все поздравляли меня с тем, что я стала частью Языка.
Дважды за время моего отрочества я слышала, как говорят меня, мое сравнение: один раз это был посол, другой – Хозяин. Годы, тысячи часов спустя после того, как я исполнила это сравнение, мне его, наконец, вроде как объяснили. Передача, конечно, грубовата, но, по-моему, им пользуются с некоторой долей удивления и иронии, когда хотят выразить обиду и подчинение судьбе.
За все мое детство и юность я больше ни разу не говорила с Бреном, но, как я выяснила, он приходил к моим дежурным родителям еще раз. Уверена, что именно моя помощь в создании фигуры речи и неявное покровительство Брена помогли мне пройти экзамены. Я много занималась, но интеллектуалкой не была никогда. Я обладала качествами, необходимыми для иммерлетчика, но не больше, чем остальные, кто экзаменовался со мной, и даже меньше, чем иные из тех, кто не прошел. Карты на выезд получили немногие гражданские и те из нас, кто проявил способность путешествовать в иммере, не впадая в сон. Не было никаких особых причин, почему несколько месяцев спустя, когда все тесты были пройдены и мои способности признаны, мне все же дали право покинуть мой мир и выйти вовне.
0.3
Каждый учебный год во втором подмесяце декабря устраивались испытания. В основном для того, чтобы установить, что мы узнали за год занятий; но отчасти с целью выявить более редкие способности. Мало кто из нас обладал дарованиями, столь высоко ценимыми в других местах, снаружи. Нам говорили, что мы, послоградские, не той породы: у нас неправильные мутагены, неподходящий аппарат, да и стремления к высокому не хватает. Многие дети к самым заковыристым экзаменам даже готовиться не стали, но мое стремление держать их нашло поддержку. Полагаю, это значит, что мои учителя и дежурные родители видели во мне какие-то задатки.
С большинством предметов я справилась на «отлично»; «хорошо» получила по риторике и творческому заданию по литературе, что меня порадовало, а также за чтение стихов. Но оказалось, что наиболее выдающиеся результаты я, сама того не подозревая, показала в испытаниях, об истинной цели которых даже не догадывалась. Я разглядывала задания на экране причудливого плазменного монитора. Каждое нужно было выполнять по-своему. Вся процедура занимала около часа и походила на игру, так что скучно мне не было. Я перешла к следующим заданиям, которые проверяли не знания, а реакции, интуицию, контроль внутреннего уха, нервозность. Их главной целью было выявление потенциальных иммерлетчиков.
Проводившая эти испытания женщина, молодая, в модной снаружи шикарной одежде, взятой взаймы, выменянной или выпрошенной у бременских служащих посольства, просмотрела вместе со мной мои результаты и объяснила мне, что они означают. Я видела, что они произвели на нее кое-какое впечатление. Без жестокости, но настойчиво, желая уберечь меня от возможных будущих огорчений, она повторяла мне, что выводы делать рано и что это лишь первая ступень из многих. Но пока она мне все это объясняла, я уже решила, что стану иммерлетчицей, и стала. Тогда я только начинала ощущать узость Послограда, брюзжать на его тесноту, но после результатов экзамена мое нетерпение усилилось.
Став старше, я обманными путями добывала себе пригласительные билеты на Балы Прибытия, где втиралась в компанию мужчин и женщин извне. Кажущееся безразличие, с которым они перебрасывались названиями стран и планет, будило во мне удовольствие и зависть.
Лишь килочасы, или годы спустя, я поняла, что моя судьба вовсе не была предначертана заранее. Что многие студенты, более способные, чем я, потерпели поражение; что и у меня могло не получиться улететь. Моя история была типична, как волшебная сказка, их сюжеты были более просты и правдивы. От этой случайности меня даже затошнило, как будто я все еще могла провалить экзамен и остаться, хотя я давно уже жила вовне.
Даже те, кто никогда не погружался, уверены, что знают – по крайней мере, представляют себе, как они говорят, – что такое иммер. Ничего подобного. Однажды мы поспорили об этом со Скайлом. Во время нашего второго разговора (первый был о языке). Он полез со своими суждениями, а я ответила, что меня не интересует, как привязанный к земле представляет себе иммер. Мы лежали в постели, и он подразнивал меня, пока я распространялась о его невежестве.
– О чем ты? – сказал он. – Ты же сама не веришь в то, что говоришь; ты слишком умна для этого. Ты просто травишь мне ваши иммерлетчицкие байки. Знаем, слышали. «Никто, ни ученые, ни политики, а уж тем более чертовы гражданские, не понимают этого так, как мы!» Любите вы нос задирать. Только чтобы отбить у людей охоту лезть в ваши дела.
Я даже расхохоталась, так он кипятился. И все же, сказала я ему, все же иммер неописуем. Но он и тут стал со мной спорить.
– Никого ты этим не обманешь. Думаешь, я не прислушивался к тому, как ты говоришь? Знаю, знаю, твое дело не болтовня, ты же у нас простой флокер, бла-бла-бла. Как будто ты не читаешь стихов, а язык принимаешь как данность. – Он покачал головой. – Короче, если все будут рассуждать так, как ты, я скоро без работы останусь. «Неописуем», как же. Ничего неописуемого не бывает.
Я прижала ладонь к его рту. Тем не менее, так оно и есть, сказала я ему.
– Пусть считается, – продолжал он говорить сквозь мои пальцы все тем же лекторским тоном, хотя и глухо, – что слова не могут быть референтами, тут я с тобой согласен, в этом трагедия языка, однако наши асимптотические попытки их употребления тоже нельзя сбрасывать со счетов. – Я сказала ему, чтобы он заткнулся. Сказала, что это правда и что я говорю это ему, как Хозяин.
– Ну что ж, – ответил он. – Перед лицом истины отступаю.
Я долго изучала иммер, и все же мое первое погружение в него невозможно описать, и я на этом настаиваю. Вместе с горсткой других членов команды и иммигрантов, получивших карты на вылет, а также со служителями посольства из Бремена, которые, закончив дела, возвращались домой, меня привезли к моему кораблю на кече. Мое первое назначение было на «Осу Колькаты». Этот квази-автономный корабль-город, погружавшийся под собственным флагом, был зафрахтован на один рейс Дагостином. Помню, как я вместе с другими новичками стояла в называвшемся «вороньим гнездом» наблюдательном пункте и следила за тем, как огромной стеной проплывала мимо нас Ариека, пока наш корабль медленно и осторожно двигался по небу в точку, откуда начнется наше погружение. Там, под иллюзорно неподвижным облачным пологом ее неба, остался Послоград.
Штурман подвел нас вплотную к Руинам. Разглядеть их было трудно. Сначала они походили на линии, прочерченные в пространстве, и вдруг мгновенно облеклись скудной плотью. Она то редела, то вновь уплотнялась. Оказалось, что в поперечнике они имеют несколько сот метров. Руины вращались, каждый их выступ двигался, причем согласно собственной программе, вся их капельно-решетчатая филигранная структура описывала сложную спираль.
По строению Руины напоминали «Осу», но были не в пример древнее и казались в несколько раз больше. Было похоже, что они – это оригинал, а мы – их уменьшенная копия, пока вдруг они не повернулись к нам другой плоскостью и не стали меньше, или просто отдалились. Они то совсем скрывались из виду, то показывались отчасти.
Офицеры, блестя подкожными приращениями, напомнили нам, новичкам, о том, что мы собираемся делать, и о том, чем опасно погружение. Они, Руины, демонстрируют это и то, почему Ариека так и осталась аванпостом, недоступным, недоразвитым, лишенным спутников после той первой катастрофы.
Я бы действовала профессионально. Да, я готовилась к своему первому погружению, но я выполнила бы все приказы и думаю, что не допустила бы ни одной ошибки. Но офицеры помнили, что значит быть новобранцем, и посадили нас, кучку неопытных иммерлетчиков, в кресла наблюдателей. Сидя в них, мы могли реагировать, когда нужно, однако никакое количество тренировок не гарантировало нас от тошноты в самый первый раз. Когда выдавалась свободная минута и можно было понаблюдать и предаться восхищению, мы предавались восхищению. В иммере есть течения и грозовые фронты. В иммере есть отрезки, пересечь которые можно, обладая лишь бесконечным умением и почти бесконечным временем. Именно техники, которыми я владею сейчас, плюс соматический контроль, мантрическая отрешенность и инструментализированный прозаизм, которые сделали из меня иммерлетчика, позволяют иммерлетчикам сохранять ясное сознание и работоспособность при погружении.
По карте до Дагостина или любого другого центра не так уж много миллиардов километров. Только этими Евклидовыми звездными картами пользуются лишь космологи, некоторые экзотерры с непонятной нам физикой да религиозные номады, мучительно дрейфующие на скоростях, не достигающих скорости света. Я была потрясена, когда увидела их впервые, – в Послограде карты не были общедоступными – однако к путешественникам вроде меня они вообще не имеют отношения.
Взгляните лучше на карту иммера. Перед вами огромная изменчивая сущность. Вы можете тянуть ее, вращать, измерять ее проекции. Разглядывайте этот световой фантом как угодно, и даже с учетом того, что это будет плоское или трехмерное воспроизведение топоса, который противится нашим попыткам его понять, ситуация все равно будет качественно иной.
Пространство иммера не совпадает с измерениями обыденного, с тем миром, в котором мы живем. Самое точное, что можно о нем сказать, это что иммер подстилает нашу действительность или покрывает ее, пропитывает, служит основой, соотносится с ней, как язык с речью, и так далее. Здесь, в повседневном, в мире световых десятилетий и петаметров, Дагостин куда дальше отстоит от Тарска и Ходжсона, чем от Ариеки. Но в иммере от Дагостина до Тарска всего несколько сотен часов при хорошем ветре; Ходжсон лежит в центре спокойных и густо населенных глубин; а от Ариеки вообще никуда не добраться, так она далека.
Она за порогами, там, где неистовые течения иммера сшибаются друг с другом, там, где материя повседневного прорывается в вечное, образуя отмели, коварные выступы и банки. Она одиноко притулилась на самом краю познанного иммера, насколько он вообще может быть познан. Без опыта, отваги и умения иммерлетчиков никто никогда не попал бы в мой мир.
При первом же взгляде на его карты становится ясно, почему так суровы выпускные экзамены, которые мы сдавали. На одних способностях там далеко не уедешь. Политика исключения тоже, конечно, имеет место: понятно, что бременцы хотят держать нас, послоградцев, под строгим контролем; и все равно лишь самая умелая команда может спокойно добраться до Ариеки или улететь с нее. Некоторым из нас вставляли специальные разъемы, чтобы подключаться к повседневным программам корабля, иммер-программы и приращения тоже помогали; но их одних недостаточно, чтобы сделать из человека иммерлетчика.
Послушать офицеров, так могло показаться, будто остов Пионера, который мне пришлось перестать называть Руинами, когда я узнала, что это не звезда, а гроб для моих коллег, был своего рода предупреждением лентяям. Но это было бы несправедливо. Пионер застрял между двумя мирами вовсе не потому, что его экипаж или офицеры недооценили иммер: напротив, осторожность и уважительное отношение исследователей привело к катастрофе. Как и многие другие корабли на торных путях иммера, он попал в ловушку, когда все только начиналось. Его заманило на верную гибель то, что люди считали посланием, зовом.
Когда иммернавты впервые подрезали сухожилия обычному пространству, среди многих поразивших их феноменов был и тот, что все они, хотя и пользовались достаточно примитивными инструментами, регулярно получали сигналы откуда-то из непространства. Четкие и явственные, они могли быть посланы только разумными существами. Иммернавты пытались добраться до их источников. Долгое время считалось, что недостаток навыков, отсутствие опыта погружений постоянно приводили к крушениям кораблей, отправлявшихся на такие поиски. Раз за разом они превращались в руины, застряв на полпути из иммера в материальную повседневность.
Пионер был потерей времен, предшествовавших пониманию того, что сигналы посылали маяки. Это был не зов. То, что манило к себе корабли, на деле было предупреждением: не приближайтесь.
Итак, маяки расставлены по всему иммеру. Не все опасные зоны отмечены ими, но все же. Похоже, что их возраст равен возрасту этой вселенной, которых тоже было несколько. Молитва, которую часто шепчут иммерлетчики перед погружением, обращена к тем неведомым, кто их поставил. Милостивые Фаротектоны, храните нас.
Фарос Ариеки я впервые увидела не тогда, а много тысяч часов спустя. Точнее говоря, я его, конечно, не видела, да и не могла увидеть; для этого понадобился бы свет, отражение и иная физика, которой нет в иммере. Но я видела представление о нем, переданное окнами корабля.
Специальное оборудование в корабельных иллюминаторах рисует иммер и все, что в нем есть, в образах, доступных восприятию команды. Я видела маяки похожими на сложные узлы, на контуры, заполненные перекрестной штриховкой. Когда я возвращалась в Послоград, капитан корабля, на котором я летела, сделал мне подарок: перевел оборудование иллюминаторов в режим картинки – приближаясь к заусенцам иммера, за которыми начиналась штормовая зона, окружающая Ариеку, я увидела луч света во фрактале темноты, луч двигался к нам, поворачиваясь вместе со своим источником. И когда посреди непространства мы увидели маяк, он оказался кирпичным, с вершиной из стекла и бронзы.
Я рассказала об этом Скайлу при нашей первой встрече, и Скайл, которому вскоре суждено было стать моим мужем, захотел, чтобы я описала свое первое погружение. Конечно, он и сам путешествовал в иммере – он не был уроженцем того мира, где мы с ним делили постель, – но, как пассажир скромного достатка и ограниченной выносливости, спал все время пути. Хотя однажды, как он мне сказал, он заплатил кому-то, чтобы его разбудили пораньше и он мог испытать погружение. (Я о таком тоже слышала. Но команде запрещено это делать, и пассажиров будят только там, где мелко.) Потом Скайла ужасно тошнило.
Что я могла ему рассказать? В тот первый раз, когда «Оса», поплескавшись, погрузилась, я была под защитой поля повседневного, и иммер меня даже не задел. По правде говоря, теснее связь с иммером я ощущала в Послограде, когда стажеркой садилась в гнездо иммерскопа и тот вдвигался в его пространство, как пустой стакан, который опускают в воду донышком вниз. Вот тогда я заглядывала в его глубину, видела его совсем близко, и это изменило меня. Но и тогда я не смогла бы ничего описать, даже если бы меня попросили.
«Оса» входила в иммер жестко. У меня не было опыта, но, сжав зубы, я справилась с тошнотой, которая накатила, несмотря на все тренировки. Даже в нежных объятиях поля повседневного я ощущала каждый рывок непривычного ускорения, когда мы входили туда, где нет направлений, а принесенный нами обманчивый пузырь гравитации, как мог, амортизировал толчки. Но я слишком волновалась и не могла не корить себя за то, что дала волю восторгу. Это пришло позже, когда с привилегиями новичков было покончено и началась бешеная работа начального этапа погружения, и даже еще позже, когда она завершилась и корабль вышел на походную глубину.
Мы, иммерлетчики, умеем не только сохранять стабильность, сознание и здоровье во время погружения, мы не просто не утрачиваем способности ходить и говорить, питаться и испражняться, слушать и отдавать приказы, принимать решения и работать с параинформацией, приближающей расстояния и условия иммера к привычным, не сходя при этом с ума от близости вечного. Хотя и это уже не мало. Дело еще в том, что нам присуща, как утверждают одни (и опровергают другие), определенная неразвитость воображения, которая не дает иммеру заворожить нас собой до полного бесчувствия. Чтобы путешествовать в иммере, мы изучили его капризы, а знание, полученное одним человеком, всегда может усвоить и другой.