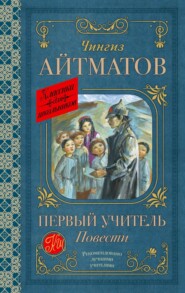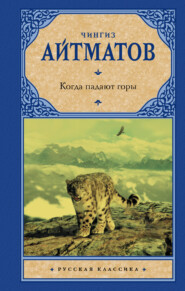По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плаха. И дольше века длится день (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Буквы. Слова какие-то обычные.
– Какие, например, слова?
– Ну какие! Я не помню.
– Вот эти! – Кречетоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. – Вот это первые слова. – На листочке было написано детской рукой: «Наш дом». – Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок, – «наш дом». А почему не «наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас, ну-ка подумай, что? Должно быть – «наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит? Победа и Сталин неразделимы.
Едигей замялся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим и так жалко стало ему Абуталипа и Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился:
– Если уж так, то надо бы первым долгом писать «наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит.
Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатушке.
– Мы говорим – Сталин, подразумеваем – Ленин! – произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно: – Хорошо, будем считать, что этого разговора между нами не было.
Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза с желтоватым оттенком.
– У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело?
– Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения? – поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка: Абилов, начальник разъезда во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.
Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетоглазого:
– Слушай, я уже давал тебе понять: откуда сведения, какие сведения – это наша забота. И мы ни перед кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он говорил?
– Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на первое сентября стали Сабитжана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться – беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына, и в отдалении он постоянно…
– Ну хорошо, – перебил его кречетоглазый. – А что сказал Куттыбаев при этом?
– Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чует неладное. Потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный – и для него и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других. Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно…
– Это потом, – остановил его кречетоглазый. – Значит, он говорил, что советский интернат – это плохо?
– Он не говорил «советский». Он просто говорил – интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю «плохо».
– Ну, это не важно. Кумбель в Советском Союзе.
– Как не важно? – вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. – Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю. Что ж, выходит?..
– Думай, думай! – проговорил кречетоглазый, приостанавливая разговор. И, помолчав, продолжал: – Та-ак, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?
– Ничего он не против! – не утерпел Едигей. – Зачем напраслину возводить! Как так можно?
– Не надо, не надо, прекрати, – отмахнулся кречетоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснения. – А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»? Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?
– Так точно, – оживился Едигей. – Это тут, в сарозеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище найманское стоит, когда-то оно было найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, манкуртом…
– Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей, – сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение: – Птица Доненбай, хм, ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся… А этот тут писаниной занялся втихомолку, для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? – Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке.
– А что это? – не понял Едигей.
– Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».
– Ну верно, это тоже легенда, – начал Едигей. – Это быль. Старые люди знают эту историю…
– Не беспокойся, я тоже знаю, – перебил его кречетоглазый. – Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатилетнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип, он еще и морально извращенный человек, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь этот маразм.
Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя:
– Ты вот что, не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай Бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга.
– Ладно, ладно, успокойся, – ответил кречетоглазый. – Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прикидывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным.
Едигей встал. Замялся, надевая шапку.
– Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?
Кречетоглазый резко привстал из-за стола.
– Слушай, я тебе еще раз повторяю: это не твое дело! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его – это мы знаем! Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!
В тот же день поздно вечером на разъезде Боранлы-Буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго. Минуты три.
Ожидая впотьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева, в стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли боранлинцы – Зарипа с детишками, Едигей и Укубала да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от сарозеков. Букей оставалась дома с едигеевскими девочками.
Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Боранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали.
Ветер гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.
– Какие, например, слова?
– Ну какие! Я не помню.
– Вот эти! – Кречетоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. – Вот это первые слова. – На листочке было написано детской рукой: «Наш дом». – Вот видишь, первые слова, которые пишет ребенок, – «наш дом». А почему не «наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас, ну-ка подумай, что? Должно быть – «наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит? Победа и Сталин неразделимы.
Едигей замялся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим и так жалко стало ему Абуталипа и Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился:
– Если уж так, то надо бы первым долгом писать «наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит.
Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатушке.
– Мы говорим – Сталин, подразумеваем – Ленин! – произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно: – Хорошо, будем считать, что этого разговора между нами не было.
Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза с желтоватым оттенком.
– У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при тебе, оказывается, было дело?
– Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения? – поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка: Абилов, начальник разъезда во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.
Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетоглазого:
– Слушай, я уже давал тебе понять: откуда сведения, какие сведения – это наша забота. И мы ни перед кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он говорил?
– Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на первое сентября стали Сабитжана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться – беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына, и в отдалении он постоянно…
– Ну хорошо, – перебил его кречетоглазый. – А что сказал Куттыбаев при этом?
– Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чует неладное. Потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный – и для него и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других. Я его понимаю. У нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно…
– Это потом, – остановил его кречетоглазый. – Значит, он говорил, что советский интернат – это плохо?
– Он не говорил «советский». Он просто говорил – интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю «плохо».
– Ну, это не важно. Кумбель в Советском Союзе.
– Как не важно? – вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. – Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде, ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю. Что ж, выходит?..
– Думай, думай! – проговорил кречетоглазый, приостанавливая разговор. И, помолчав, продолжал: – Та-ак, стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллективного воспитания, не так ли?
– Ничего он не против! – не утерпел Едигей. – Зачем напраслину возводить! Как так можно?
– Не надо, не надо, прекрати, – отмахнулся кречетоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснения. – А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием «Птица Доненбай»? Куттыбаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?
– Так точно, – оживился Едигей. – Это тут, в сарозеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище найманское стоит, когда-то оно было найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, манкуртом…
– Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей, – сказал кречетоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение: – Птица Доненбай, хм, ничего лучшего и не придумаешь. Птица с человеческим именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтар Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся… А этот тут писаниной занялся втихомолку, для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? – Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь в клеенчатой обложке.
– А что это? – не понял Едигей.
– Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану».
– Ну верно, это тоже легенда, – начал Едигей. – Это быль. Старые люди знают эту историю…
– Не беспокойся, я тоже знаю, – перебил его кречетоглазый. – Слышал краем уха. Старый, выживший из ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатилетнюю девицу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только враждебный тип, он еще и морально извращенный человек, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь этот маразм.
Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполнилась его душа, ибо большей несправедливости по отношению к Абуталипу быть не могло. И он сказал, едва сдерживая себя:
– Ты вот что, не знаю, какой ты там начальник, но в этом ты его не задевай. Дай Бог каждому быть таким отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем друг друга.
– Ладно, ладно, успокойся, – ответил кречетоглазый. – Затуманил он вам тут мозги. Враг всегда прикидывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть свободным.
Едигей встал. Замялся, надевая шапку.
– Так что, как будет с ним? Как теперь? Только из-за этих писаний сажать человека, что ли?
Кречетоглазый резко привстал из-за стола.
– Слушай, я тебе еще раз повторяю: это не твое дело! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к какому наказанию привлечь его – это мы знаем! Пусть твоя голова не болит. Знай свою дорожку. Иди!
В тот же день поздно вечером на разъезде Боранлы-Буранный еще раз остановился пассажирский поезд. Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже стоял недолго. Минуты три.
Ожидая впотьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева, в стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли боранлинцы – Зарипа с детишками, Едигей и Укубала да начальник разъезда Абилов, все сновавший взад-вперед и суетившийся мелочно и ничтожно, ибо поезд опаздывал против расписания на полчаса. Но он-то тут был при чем? Стоял бы уж себе спокойно. А Казангап, тоже прошедший через допрос по поводу злополучных легенд, обнаруженных у Абуталипа, находился в тот час на стрелке. Это ему предстояло собственноручно направить поезд на тот путь, по которому должны были увезти Абуталипа далеко от сарозеков. Букей оставалась дома с едигеевскими девочками.
Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно молчали. Боранлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали.
Ветер гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: