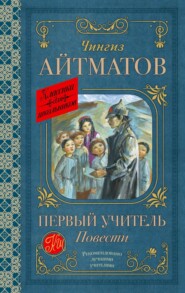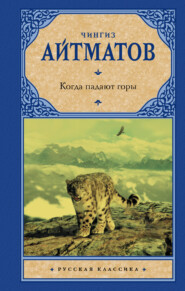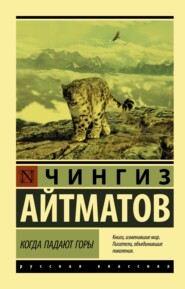По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ранние журавли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крича и ругаясь на весь двор, он столкнулся с Султанмуратом. Когда ребята побежали, Султанмурат остался на месте. Бледный, перепуганный, он стоял, глядя в упор на бригадира, но бежать от ответа не посмел.
– А-а, это ты! И ты еще смотришь на меня! – И не удержался старик Чекиш, протянул командира десантников плеткой через плечо. Но, замахиваясь во второй раз, одумался, захрипел, устрашающе топал ногами: – Беги, сукин сын! Беги, говорю! Убегай! Запорю!
Султанмурат стоял отшатнувшись, инстинктивно загораживая лицо руками, не сводя с бригадира перепуганных глаз. Он ждал, как жгучей полосой стегнет вдоль спины хлыст. И собрал все силы, чтобы не побежать, выдержать, устоять…
– Ну ладно! – вдруг сказал Чекиш, удивившись упрямству парнишки. – Остальное получишь, когда отец вернется с войны. Я и при нем тебе еще всыплю за это дело!
Султанмурат молчал. А Чекиш все не мог успокоиться. Топтался взад-вперед, размахивал руками:
– Ты ему говоришь – беги, а он стоит! Ну подумай, ну где мне угнаться за тобой! Куда мне за вами! Побежал бы ради уважения, и мне легче стало бы! А побить – на тебе одежонка худая, да и телом ты жидковат, не для плетки. Было бы что бить! Ну ладно! Прости старика. Вернется отец, поколотите меня, старого, так и быть! А пока давай показывай, что вы тут натворили…
Такая история приключилась в тот день. Досталось Султанмурату. Поделом. Как тут было удержаться бригадиру от плетки. Сколько труда, сколько стараний пропадало – куда и на что годен хромой конь? Разве на мясо. Но у кого поднимется рука на рабочую скотину? Единственная надежда была в том – Чекиш и другие знающие люди сказали, – что повреждение не опасное. Пришлось отвести анатаевского Октора к одному старику во двор. Он умел пользовать лошадей. Клевера, овса подвезли и ежедневное дежурство устроили там. Повезло еще, дней через пять Октора привели в конюшню, дело пошло на поправку.
И вообще та неделя выдалась тяжкая. Дома мать приболела. Вначале ей нездоровилось, а потом слегла с сильным жаром в постель. Пришлось Султанмурату оставаться дома, за матерью, за младшими присматривать. Тогда и бросилось ему в глаза, как скудно и бедно стало у них в доме. Когда отец уходил в армию, держали с десяток овец, теперь не осталось ни одной: двух зарезали на мясо, а других продали в уплату на заем, на военный и другие налоги. Хорошо еще корова имелась, вымя наливалось, телиться должна была вскоре, да аджимуратовский ишак Черногривый бродил на задах. Вот и вся живность. И ту кормить оказалось нечем. На крыше сарая сохранялись в снопах сухие бодылья кукурузы. Посчитал, и оказалось, что для коровы на дни отела едва-едва хватит, если зима не затянется, а задержится – кто его знает, как все обернется. Ишак же должен был сам себе добывать пропитание. Колючку и бурьян ел вокруг двора. А с топливом и того хуже – кизяк на исходе, хвороста-курая на несколько дней осталось. А как потом? Собака Актош и та превратилась в доходягу. Приуныл Султанмурат. Стыдно стало перед собой. День и ночь занятый на конном дворе подготовкой аксайского десанта, не заметил, в какое запустение пришло хозяйство в доме. Разве так было при отце? Сена накашивал отец, на всю зиму и весну хватало. Топлива тоже припасал с избытком. Да что и говорить – вся жизнь была устроена при отце по-иному – надежно, разумно, красиво. И не только дома, а всюду, быть может, во всем мире. Двор их, например, выглядел теперь иначе. Чего-то в нем не хватало, как листьев на дереве по осени. Аил стоит на месте, улицы, дома все те же, а все равно не так, как было при отце. Даже колеса проезжающих по дороге за двором бричек стучат не так радостно, как стучали они при отце, когда он ездил по этим дорогам и на этих же бричках…
Люди, побывавшие в Джамбуле, рассказывали, что в городе такая дороговизна, так голодно и тревожно, что хочется поскорее домой. Значит, и город совсем не тот, каким он был, когда они ездили туда с отцом.
Отчего же так? Выходит, нет отца – и худо стало… Где-то он сейчас, что с ним? Последнее письмо приходило месяца полтора назад. Задерживается, успокаивает мать. Она вздыхает. И действительно, может же письмо задержаться, тем более с фронта. Возможно, там не до писем сейчас никому? В том-то и суть, однако: одно дело, когда письмо задерживается с Чуйского канала, и другое – когда с фронта. Об этом они думают, и мать и все они.
Позавчера к рассвету собака вдруг залилась от лая, а потом смолкла, заскулила радостно, и раздался стук в окно. Мать встрепенулась, вскочила с постели, хотя и больная лежала. Он тоже кинулся к окну. Кто-то стоял у дома. Мать первая узнала.
– Дядя наш Нургазы приехал, – сказала она сыну, – иди, встреть. – А сама вернулась в постель, стуча от озноба зубами.
Брат матери дядя Нургазы жил в горах, всю жизнь проработал чабаном в соседнем совхозе. Однажды его тоже призвали в армию, хотя он и немолод уже, а из Джамбула его и еще нескольких чабанов вернули домой. При отарах некому стало ходить. Не бросать же стадо на ветер. Хорошо, что дядя Нургазы был, нет-нет да и попроведает. Вот и в этот раз, прослышав, что сестра занемогла, спустился с гор ночью, когда отара в загоне. Ненадолго приехал, узнать что к чему да вернуться пораньше на место.
Обветренный, заиндевевший, в тяжелой шубе, в большом лисьем малахае, в сапогах с кошмяными голенищами выше колен, вошел он, громадный и кряжистый, пропахший холодом и овечьим духом. И сразу в доме стало тесно и шумно. Сбросив шубу, сел подле постели сестры, взял ее горячую руку в свои тяжелые ладони и молча стал прослушивать пульс. Долго, внимательно слушал, держа ее тонкое запястье в своих твердых, трудно гнущихся темно-коричневых пальцах. Что-то знал, что-то постиг он. Кашлянул, призадумавшись, затем пригладил бороду и сказал Султанмурату, улыбаясь одобрительно:
– Ничего страшного. Простыла она у вас порядком. Холода в нее вошло много. А я как знал, мяса, сала курдючного прихватил… Горячей шурпы[10 - Шурпа – мясной суп.] с салом, перцем и луком попей, чтоб пропотела как следует, – посоветовал он сестре. – А ты, Султанмурат, сними с седла курджун, занеси, что там есть, в дом, а курджун освободи… Я недолго задержусь, отару не заставишь ждать.
Пока мать с дядей разговаривали о житье-бытье, Султанмурат успел огонь развести, вскипятить чаю. А тут и младшие проснулись. И сразу все к дяде кинулись с постели, неодетые. Он их кутал в шубу подле себя, а они лезли на колени, на шею. Особенно Аджимурат, любимец дяди, тот совсем превратился в дитя. Ласкался, как теленок, хотя и в третий класс уже ходил. Шапку дядину, лисий малахай, надел на себя, камчу дядину в руки, а сам залез на плечи, вроде бы на коня.
– Как тебе не стыдно! Слезь! – Султанмурат сдернул его раза два, но дядя Нургазы сам позволял:
– Не трогай его, не трогай, пусть побалуется.
Вот такое веселое, шумное утро выдалось. Аджимурату пора уже в школу, а он и не собирается. Мать вынуждена была прикрикнуть, он и тогда не спешит, все возле дяди крутится, тот тоже стал упрашивать племянника торопиться. С трудом удалось заставить его одеться. Дело дошло до того, что Султанмурат сам за руку выпроводил брата за двери. Тот упирался и, очутившись за дверью, разревелся. С тем громким ревом и пошел в школу. Жалко стало мальчишку.
Дядя Нургазы рассердился даже.
– Это ты его? – с упреком глянул на Султанмурата.
– Нет, тайаке[11 - Тайаке – дядя по матери.], я его не трогал.
– А почему он так заплакал?
– Не трогал он его, – вступилась и мать, поднимая голову с подушки. – Нет, Нургазы, это он с тоски по отцу. Потому и липнут к тебе дети. Извелись мы. Все время только и ждем. Хотя бы весточки. Скоро два месяца как ни слуху…
Дядя Нургазы стал успокаивать мать, просил не плакать, сберегать силы для детей, рассказывал разные случаи, когда человека считали уже не в живых, а от него письмо приходило через полгода. Война, мол, есть война…
В этот раз, подле больной матери, Султанмурат особенно остро почувствовал запустение жизни без отца. Был бы поменьше, как Аджимурат, заревел бы в голос с тоски. И пошел бы, побежал бы с плачем куда глаза глядят. Хотелось хотя бы маленькой надежды. Пусть даже не сразу приедет, но только бы знать, что отец жив, и тогда можно было бы дышать, ждать, держаться. Теперь он хорошо понял свою учительницу Инкамал-апай.
Приходила она однажды на конный двор, ждала, пока запрягут попутную бричку в район. Все в той же грубовязаной шали своей стояла у покосившихся ворот, совсем постаревшая, одинокая, с застывшей печалью в глазах. А через день, когда вернулась, не узнать, точно бы подменили старую учительницу. Или, вернее, прежней стала. Даже морщины на лице разгладились. Приветливая, поинтересовалась делами своих учеников. Султанмурат водил ее по двору, показывал десантных лошадей:
– Вот, Инкамал-апай, наши четверки! Вот они все стоят вдоль акура.
– Хорошие лошади, сразу видно, ухоженные, – похвалила Инкамал-апай.
– А если бы вы видели, какие они были, – рассказывал Султанмурат. – Совсем доходяги. В лишаях. Холки натертые, в гное, ноги побитые. А теперь мы и сами их не узнаем. Вот, Инкамал-апай, мой Чабдар. Видите, какой! Отцовский конь. А это Акбакай, вот Джелтаман…
Потом он показывал учительнице сбрую в шорной, уже почти готовую, налаженную для упряжи. Потом пошли посмотреть плуги. Все было в порядке, хоть сейчас запрягай и паши…
Очень довольной осталась Инкамал-апай. И, прощаясь, призналась, что переживала и в душе не согласна была, когда их оторвали от учебы, а теперь видит – не зря пошли на эту жертву. Главное теперь – победить, говорила она, и чтобы люди поскорее вернулись с войны, а потом наверстаем упущенное, наверстаем обязательно…
Оказалось, что учительница Инкамал-апай была у какой-то знаменитой гадалки, которая, если добрая весть выйдет, ничего не берет, никакой платы, оттого что сама радуется чужому счастью, как своему. Потому врать она не может. Эта гадалка и поведала ей, трижды повторив гадальный расклад, что сын Инкамал-апай жив. И не в плену и не ранен. А только такое у него задание, что писем писать не разрешается. А когда получит на то разрешение, то – сама убедится – письма пойдут одно за другим… Сколько тут правды, сколько нет, но рассказал об этом на конюшне возчик, с которым люди ездили в район.
Подивился было тогда Султанмурат, что сама Инкамал-апай поехала к гадалке, а теперь понял ее страхи и страдания и решил даже посоветовать матери, когда ей станет лучше, съездить к той вещунье, узнать об отце.
Да, тяжко и страшно было думать обо всем этом. Но были и светлые, отрадные мысли, которые возникали как бы сами по себе, как струи воды, поднимающиеся к поверхности в бесшумно кипящей горловине родника. То были мысли о ней, о Мырзагуль. Он вовсе не старался вызывать эти мысли, но они приходили сами собой, как трава из земли, и в том была их радость, их свет, и потому не хотелось расставаться с ними, хотелось думать и думать о ней, о Мырзагуль. И, думая о ней, хотелось что-то делать, действовать, не бояться ничего, никаких бед, никаких трудностей. Но больше всего хотелось, чтобы обо всем этом, о том, как он думает о ней и что он думает о ней, знала бы она сама.
Он еще не понимал толком, как называется все то, что с ним происходило. Но смутно догадывался, что, наверно, это и есть любовь, о которой слышал от других и читал в книгах. Не один раз джигиты, уходящие на фронт, просили его отнести запечатанное письмо какой-нибудь девушке или молодой женщине. Он с гордостью исполнял такие секретные поручения. И никогда никому ни словом не проболтался. Разве дело мужчины болтать о таких вещах! А был даже случай, когда дальний родственник попросил его написать такое письмо. Джаманкул молодой, но малограмотный был, кочевал в горах с отарами, в детстве не учился. А тут повестка в армию. Хотелось, наверное, парню попрощаться с любимой девушкой, рассказать ей, пусть на бумаге, о своих чувствах, поскольку не принято было в аиле встречаться с девушкой до ее замужества. Вот и пришлось малограмотному Джаманкулу обратиться с просьбой к сыну родственников. Джаманкул диктовал, а Султанмурат писал его слова. Тогда Султанмурату показалась смешной и эта затея и то, как переживал Джаманкул, как волновался, выбирая слова, как пересохло у него в горле, пока закончили они то письмо. А перед этим Султанмурат поартачился, заставил уговаривать себя, получил в подарок ножичек с рукояткой из архарьего рога, не подозревая, что не пройдет и года, как сам столкнется с тем, что так волновало бедного Джаманкула.
Это ведь Джаманкулу принадлежали стихи, сочиненные им в одиночестве в горах, которые Султанмурат теперь вспомнил и повторял про себя:
Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел…
И вдруг он догадался: он тоже напишет ей письмо! И то, что найден способ, не испытывая стыда и страха, высказать, передать на расстоянии свои чувства, вызвало в нем желание немедленно действовать, совершать какие-то хорошие дела, чтобы и другим было так же хорошо, как и ему, чтобы и другие испытывали такое же счастье, как и он. Прежде всего он должен помочь матери, чтобы быстрее выздоровела, чтобы меньше страшилась за отца, чтобы снова работала на ферме, чтобы дома стало уютно и тепло и чтобы мать немного догадывалась, что ее сын кого-то любит и оттого вокруг все так изменилось к лучшему…
За эти два-три дня, которые он пробыл дома, Султанмурат переделал уйму работы, за целый год столько не сделал бы. Все, что по хозяйству было во дворе и дома, наладил, почистил, прибрал. К матери то и дело подходил:
– Как чувствуешь себя? Может быть, что-то надо тебе?
Мать горько улыбалась в ответ:
– Теперь и умирать не страшно. Не беспокойся, если что надо, скажу…
А письмо он написал ночью, когда уже все спали. Очень волновался, хотя никто и ничто не могло ему помешать. Все равно волновался. Вначале обдумывал, с чего начать. И так и эдак примерялся, но всякий раз казалось, что не так и не с того следует начать. Мысли разбегались, как круги на воде от беспорядочно падающих камней. Хотелось сказать обо всем, что вынашивал в мыслях, а как только дело коснулось бумаги, слова не вязались. Прежде всего, хотелось рассказать ей, Мырзагуль, какая она красивая, красивее всех в аиле, и не только в аиле, а во всем мире. Рассказать ей, что для него нет ничего на свете более отрадного, как сидеть в классе и смотреть и смотреть на нее, любоваться ее красотой. Но теперь жизнь обернулась так, что он со своим десантом в школу не ходит, и неизвестно, когда они вернутся на учебу. Теперь он редко ее видит и от этого страдает очень, очень, очень тоскует по ней. Так тоскует, что порой плакать хочется. В этом он не собирался признаваться, мужчина должен оставаться мужчиной, но действительно слезы иной раз подкатывали к горлу. Надо было объяснить ей в письме, что вовсе не зря и не случайно он подходил к ней вроде бы с нахальным видом на переменах и что напрасно она избегала его. У него не было в мыслях ничего плохого. Очень хотелось также объяснить ей тот случай со скачками, когда наглец Анатай вздумал показать, что будто он самый смелый, сильный и вообще самый главный в десанте. Но из этого, как она сама убедилась, у него ничего не вышло. Жаль только, что конь его Октор пострадал. Но самое важное, о чем ему хотелось бы рассказать, – как внезапно узнал ее на бугре в гурьбе одноклассников, и как сразу понял, что любит ее давно и сильно, и то, какая красивая была она, когда бежала с бугра, раскинув руки и что-то крича. Она бежала к нему, как музыка, как водопад, как пламя огня…
Лампу на подоконнике пришлось раза два подправить. Фитиль нагорал. Хорошо еще, мать лежала в другой комнате и не видела, как он сжигает последний керосин. А письмо все не вязалось, и не оттого, что нечего было сказать, а, наоборот, от желания сказать обо всем сразу.
В аиле давно уже перестали светиться окошки, давно уже перестали взлаивать собаки, давно все спали той глухой февральской ночью в долине под Манасовым снежным хребтом. За окном разливалась непроглядная густая тьма. Во всем мире, казалось ему, остались только они – ночь и он со своими думами о Мырзагуль.
Наконец он решился. Озаглавив свое письмо «Ашыктык кат»[12 - Ашыктык кат – любовное письмо.], написал, что оно предназначено живущей в аиле прекрасной М., свет красоты которой может заменить свет лампы в доме. Дальше написал, что на базаре встречается тысяча людей, а здороваются лишь те, кто хочет подать друг другу руку. Все это он запомнил из письма Джаманкула. Потом заверил, что хочет посвятить свою жизнь ей до последнего дыхания и так далее. В заключение вспомнил Джаманкуловы стихи:
Аксай, Коксай, Сарысай – земли обошел,
Но нигде такую, как ты, не нашел…
6