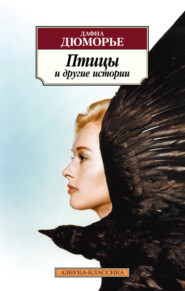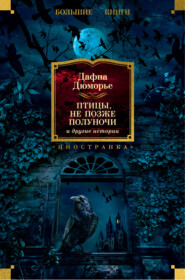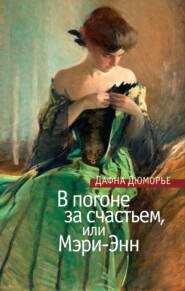По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трактир «Ямайка». Моя кузина Рейчел. Козел отпущения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Будущее казалось таким шатким и неопределенным, совсем скоро она лишится всего, что знала и любила, и даже знакомая исхоженная земля не поможет девушке пережить трудные времена, когда те настанут.
С каждым днем мать слабела; с каждым днем жизнь уходила из нее. Она протянула жатву и сбор урожая, дожила до первого листопада. Но когда по утрам стали сгущаться туманы и на землю опустились заморозки, когда вздувшаяся река потоком устремилась к бурному морю, а волны с грохотом стали разбиваться на отмелях Хелфорда, вдова беспокойно заворочалась в постели, хватаясь за простыни. Она называла дочь именем своего мертвого мужа и говорила о том, что давно прошло, и о людях, которых Мэри никогда не видала. Три дня больная прожила в собственном мире, а на четвертый день умерла.
На глазах у Мэри все, что она любила и знала, постепенно переходило в чужие руки. Живность продали на Хелстонском рынке. Мебель раскупили соседи. Одному человеку из Каверака приглянулся их дом, и он купил его. С трубкой в зубах новый хозяин расхаживал по двору и указывал, где и что он будет менять, какие деревья срубит, чтобы открылся вид. Мэри с молчаливым отвращением наблюдала за ним из окна, складывая скудные пожитки в отцовский сундук.
Она сделалась нежеланной гостьей в собственном доме: по глазам незнакомца из Каверака Мэри видела, как он хочет, чтобы она поскорее убралась, да и сама она теперь думала только о том, чтобы поскорее уехать. Мэри снова перечитала письмо от тети, написанное неразборчивым почерком на простой бумаге. Тетя писала, что несчастье, обрушившееся на ее племянницу, стало для нее потрясением, что она понятия не имела о болезни сестры и вообще так много лет прошло с тех пор, как она гостила в Хелфорде. «У нас тоже произошли перемены, о которых ты не знаешь, – продолжала тетушка. – Я теперь живу не в Бодмине, а почти в двенадцати милях от города, по направлению к Лонстону. Это дикое и уединенное место, и, если ты к нам приедешь, я буду рада твоей компании, особенно зимой. Я спросила твоего дядю; он не возражает, если только ты не болтлива, покладиста и согласна нам помогать, когда понадобится. Как ты понимаешь, он не может давать деньги или кормить тебя просто так. За жилье и стол ты будешь помогать в баре. Видишь ли, твой дядя – хозяин трактира „Ямайка“».
Мэри сложила письмо и убрала в сундук. Странное приглашение от той улыбчивой тети Пейшенс, которую она помнила.
Холодное, пустое письмо; ни единого слова утешения, никаких подробностей, лишь упоминание о том, что племянница не должна просить денег. Тетя Пейшенс, красавица в шелковой юбке, такая деликатная, – и вдруг жена трактирщика! Мама, должно быть, ничего об этом не знала. Это письмо совсем не походило на то, которое десять лет назад написала счастливая невеста.
Как бы то ни было, Мэри дала слово, и его нужно сдержать. Родной дом продан; здесь ей нет места. Как бы ни приняла ее тетя – она мамина родная сестра; только об этом и следовало помнить. Прошлая жизнь осталась позади – милая родная ферма и светлые воды Хелфорда. Впереди лежало будущее – и трактир «Ямайка».
Вот так Мэри Йеллан и оказалась в скрипучем тряском дилижансе, который направлялся на север через Труро, стоящий у истоков реки Фал, с его крышами и шпилями, широкими мощеными улицами. Голубое небо над головой все еще напоминало о юге, люди у дверей улыбались и махали рукой вслед громыхавшему экипажу. Но когда Труро остался позади, небо заволокло тучами, а по обе стороны большой дороги потянулась дикая пустынная местность. Все реже в долине встречались деревни, разбросанные там и сям, и в дверях домов почти не было видно улыбающихся лиц. Деревья попадались лишь изредка; живые изгороди и вовсе пропали. Потом задул ветер и принес с собой дождь. И наконец дилижанс вкатился в Бодмин, такой же серый и неприветливый, как окружающие его холмы, и пассажиры один за другим стали собирать вещи и готовиться к выходу – все, кроме Мэри, которая неподвижно сидела в своем углу. Кучер – лицо его было мокрым от дождя – заглянул внутрь через окно.
– Вы собираетесь дальше, в Лонстон? – спросил он. – Сегодня ночью не стоит ехать через пустоши. Знаете, вам лучше переночевать в Бодмине и отправиться утренним дилижансом. В карете-то больше никого не осталось.
– Но меня ждут сегодня, – возразила Мэри. – Дорога меня не пугает. Да мне и не нужно до самого Лонстона; вы ведь сможете высадить меня у трактира «Ямайка»?
Кучер взглянул на нее с удивлением.
– У трактира «Ямайка»? – переспросил он. – Зачем вам трактир «Ямайка»? Это неподходящее место для девушки. Ей-богу, вы, должно быть, ошиблись. – Он уставился на нее в упор, явно не веря.
– Да, я слышала, что это довольно уединенное место, – ответила Мэри. – Но я и сама не городская. На реке Хелфорд, откуда я родом, всегда тихо, зимой и летом, но мне никогда не было там скучно.
– Дело тут вовсе не в скуке, – ответил кучер. – Может, вы не понимаете, раз вы не местная. Хотя многих женщин испугали бы раскинувшиеся на много миль пустоши, но речь не об этом. Подождите-ка. – Он окликнул через плечо женщину, которая стояла в дверях гостиницы «Ройял», зажигая лампу над крыльцом, потому что уже стемнело. – Будьте добры, миссис, – сказал кучер, – подойдите сюда и урезоньте эту девушку. Мне сказали, что она едет в Лонстон, но она попросила высадить ее у «Ямайки».
Женщина спустилась по ступенькам и заглянула в карету.
– Места там дикие и страшные, – сказала она, – и если вы ищете работу, то на фермах вы ее не найдете. Там, на пустошах, чужаков не любят. Лучше вам остаться в Бодмине.
Мэри улыбнулась.
– Все будет хорошо, – заверила она. – Я еду к родственникам. Мой дядя – хозяин трактира «Ямайка».
Воцарилось долгое молчание. В полутьме кареты Мэри заметила, что мужчина и женщина уставились на нее. Ей вдруг стало зябко и тревожно; она надеялась услышать хоть слово ободрения, но так и не дождалась. Женщина отступила от окна.
– Извините, – медленно проговорила она. – Это, конечно, не мое дело. Спокойной ночи.
Кучер, покраснев, принялся насвистывать, как будто хотел загладить неловкость. Мэри порывисто потянулась и тронула его за руку:
– Скажите мне… Я не обижусь. Моего дядю здесь не любят? Что-нибудь не так?
Кучеру было явно не по себе. Он говорил сердито и избегал ее взгляда:
– У «Ямайки» дурная слава, странные толки ходят. Знаете, как это бывает. Но я не хочу зря вас пугать. Может, это все и неправда.
– Какие толки? – спросила Мэри. – Там что, много пьют? Или мой дядя привечает дурных людей?
Кучер не поддавался.
– Не хочу зря вас пугать, – повторил он, – к тому же я ничего толком не знаю. Только то, что другие говорят. Порядочные люди в «Ямайку» больше не ходят. Вот и все, что мне известно. В прежние времена мы там поили и кормили лошадей и сами заходили промочить горло и перекусить. Но больше мы там не останавливаемся. Мы нахлестываем лошадей, пока не доберемся до перекрестка Пяти Дорог, да и там не задерживаемся.
– Почему люди туда не ходят? В чем причина? – не отставала Мэри.
Кучер медлил с ответом, как будто подыскивая слова.
– Боятся, – произнес он наконец и покачал головой. Больше ничего добиться от него было нельзя. Возможно, он чувствовал, что был слишком резок, или ему стало жаль девушку, но минуту спустя он снова заглянул в окно и заговорил: – Не хотите выпить чашку чая перед отъездом? Дорога длинная, а на пустоши холодно.
Мэри покачала головой. Аппетит у нее пропал. И хотя чай согрел бы ее, девушке не хотелось выходить из кареты и идти в «Ройял», наверняка та женщина станет ее разглядывать, а люди вокруг – перешептываться. Кроме того, внутри Мэри вдруг кто-то трусливо заныл: «Останься в Бодмине, лучше останься в Бодмине». Девушка боялась, что в тепле и уюте гостиницы может уступить. Но она ведь пообещала матери поехать к тете Пейшенс и не должна нарушать данное слово.
– Тогда трогаемся, – сказал кучер. – Сегодня ночью мы будем единственными путниками на всей дороге. Вот вам еще один плед на колени. Когда мы перевалим через гору и выберемся из Бодмина, я погоню лошадей: эта ночь – не для путешествий. Я не успокоюсь, пока не доберусь до Лонстона и не лягу в свою постель. Не много найдется любителей ездить через пустоши зимой, да еще по такой грязи.
Он захлопнул дверь и залез на козлы.
Дилижанс загрохотал вниз по улице, мимо надежных и прочных домов, мимо мерцающих огней, мимо случайных прохожих, которые торопились к ужину домой, сгибаясь под напором ветра и дождя. Сквозь ставни на окнах пробивались узкие полоски теплого света свечей: там, должно быть, в очаге горит огонь, на столе постелена скатерть, женщина с детьми садится за ужин, а мужчина греет руки у веселого пламени. Мэри подумала об улыбчивой крестьянке, своей попутчице; та, наверное, тоже сидит сейчас у себя дома, за столом, рядом с детьми. Какая она была уютная, с румянцем во всю щеку, с грубыми натруженными руками! Какую уверенность и спокойствие излучал ее глубокий голос! И Мэри сочинила для себя маленькую историю о том, как она вышла бы из кареты вслед за попутчицей и попросила бы приютить ее. Конечно, ей бы не отказали – девушка была в этом уверена. Для нее нашлись бы и улыбка, и дружеская рука, и постель. Она стала бы помогать этой женщине, полюбила бы ее, вошла бы в ее жизнь и познакомилась бы с ее близкими.
Но лошади тащились в гору, прочь из города, и в задние окна кареты Мэри видела, как огни Бодмина быстро исчезают один за другим, и вот уже последний отблеск мигнул, задрожал и скрылся. Теперь она осталась один на один с ветром и дождем, с долгими милями бесплодной пустоши, отделявшими ее от конечной цели путешествия.
Мэри подумала, что так, должно быть, чувствует себя корабль, покинув безопасную гавань. Ни одно судно не могло бы казаться себе более одиноким, чем она сейчас, даже когда ветер свистит в снастях и море лижет палубу.
Теперь в экипаже было темно, факел горел тусклым желтым огнем, а от ветра, задувавшего из щели в крыше, пламя колебалось, угрожая поджечь кожаную обивку, поэтому Мэри решила его потушить. Девушка забилась в угол, раскачиваясь из стороны в сторону в такт движению экипажа и думая о том, что раньше и не знала, каким пугающим бывает одиночество. Даже дилижанс, который весь день укачивал ее, как колыбель, теперь, казалось, скрипел и стонал угрожающе. Ветер готов был сорвать крышу, а дождевые струи, ярость которых больше не сдерживали холмы, с новой силой забарабанили в окна. По обе стороны дороги раскинулась бескрайняя равнина. Ни деревьев, ни тропинок, ни одиноких домиков, ни деревушки; только мили и мили холодной пустоши, темной, нехоженой, тянущейся вплоть до невидимого горизонта. Невозможно здесь жить, подумала Мэри, оставаясь при этом как все люди. Даже дети, должно быть, рождаются искореженные, как почерневшие кусты ракитника, согнутые ветром, который не прекращает дуть с востока и запада, с севера и юга. Их души тоже должны быть искореженными, а мысли – злобными, потому что этим людям приходится жить среди болот и гранита, жесткого вереска и осыпающегося камня.
Здешние жители – наверняка потомки странного племени, которое спало под этим черным небом, приникая к голой земле вместо подушки. В них должно остаться что-то от дьявола. Дорога все вилась и вилась по темной и молчаливой равнине, и ни один огонек ни на мгновение не вспыхнул лучом надежды для одинокой путешественницы в дилижансе. Возможно, на протяжении всех долгих двадцати с лишним миль, составляющих расстояние между Бодмином и Лонстоном, не было никакого жилья; возможно, здесь не было даже пастушьего шалаша на пустынной большой дороге; ничего, кроме одной-единственной мрачной вехи – трактира «Ямайка».
Мэри перестала ориентироваться во времени и пространстве, – возможно, они проехали уже сотню миль, а время, наверное, приближалось к полуночи. Теперь она цеплялась за безопасность экипажа, – по крайней мере, здесь ей было хоть что-то знакомо. Мэри села сюда еще утром, а это было так давно. Каким бы чудовищным кошмаром ни казалась эта бесконечная поездка, все-таки Мэри защищали четыре стены и жалкая протекающая крыша, и сидел кучер, которого можно окликнуть. Все это успокаивало девушку. Наконец ей показалось, что возница погнал лошадей еще быстрее; Мэри слышала, как он кричит на них, ветер донес до окна его голос.
Путешественница подняла раму и выглянула наружу. Ее встретил порыв ветра и дождя; он ослепил ее на миг, а потом, отряхнув волосы и откинув их с глаз, Мэри увидела, что дилижанс бешеным галопом мчится по гребню холма, а по обе стороны дороги лежит невозделанная пустошь, чернея сквозь дождь и туман.
Перед ней на вершине холма, слева, в стороне от дороги, возвышалось какое-то строение. На фоне темного неба мрачно чернели высокие трубы. Рядом не было ни одного другого дома или хижины. «Ямайка» стояла в гордом одиночестве, открытая всем ветрам. Мэри закуталась в плащ и застегнула пряжку на поясе. Кучер натянул поводья, и лошади остановились; они взмокли от пота, несмотря на дождь, и над их спинами облаком поднимался пар.
Кучер спустился, прихватив с собой сундук пассажирки. Он торопился и постоянно оглядывался через плечо на дом.
– Приехали, – сказал он. – Идите через двор. Постучите в дверь, и вас впустят. Мне надо торопиться, а то я сегодня не попаду в Лонстон.
Через секунду кучер уже был на козлах, с поводьями в руках. Он гикнул на лошадей, лихорадочно их нахлестывая. Трясясь и раскачиваясь, дилижанс в мгновение ока помчал по дороге и исчез, поглощенный тьмой, будто его никогда и не было.
Мэри стояла одна со своим сундуком. Она услышала, как в темном доме позади нее отодвигают засовы, и дверь распахнулась. Огромная фигура вышла во двор, размахивая фонарем.
– Кто там? – донесся громкий голос. – Что вам здесь нужно?
Мэри шагнула вперед и взглянула в лицо мужчины.
Свет слепил ей глаза, и девушка ничего не могла разглядеть. Человек размахивал перед ней фонарем и вдруг рассмеялся, схватил ее за руку и грубо втащил на крыльцо.
– Ах, так это ты? – сказал он. – Значит, все-таки приехала! Я твой дядя Джосс Мерлин. Добро пожаловать в трактир «Ямайка»!
Он снова засмеялся и, смеясь, затащил девушку в дом, захлопнул дверь и поставил фонарь на стол в прихожей. Хозяин и гостья оказались друг с другом лицом к лицу.