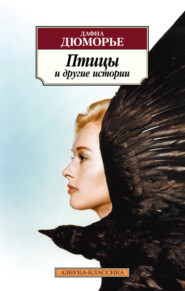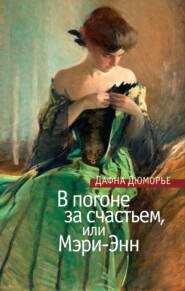По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Птицы», «Не позже полуночи» и другие истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он схватил кочергу и принялся яростно шуровать в очаге, круша головешки, пытаясь заставить их наконец разгореться, чтобы вместо чада и дыма запылал бы нормальный огонь. Но все усилия были напрасны. Поленья по-прежнему едва тлели, и клейкий ручеек все продолжал сочиться на каминную решетку, и сладковатый запах висел в комнате, вызывая у него дурноту. Он взял стакан и книгу, перешел в кабинет, включил там электрический обогреватель и уселся в кресло у стола.
Идиотизм какой-то! Ему вспомнилось, как раньше, стараясь избавиться от общества Мидж, он притворялся, будто хочет заняться своей корреспонденцией, и подолгу отсиживался у себя в кабинете. По вечерам, покончив с домашними делами, она обычно бралась за вязанье и через некоторое время начинала безудержно зевать. На редкость неприятная привычка – сама она ее не замечала, но его это просто выводило из себя. Она усаживалась на диване в гостиной, минут пятнадцать вязала – слышалось только быстрое пощелкиванье спиц; и вдруг раздавался первый зевок – мучительно-протяжный, исходящий из самого нутра: «А-а-а… а-а-а… x-xa!», а за ним неизменно следовал вздох. Потом снова наступала тишина, нарушаемая одним звяканьем спиц; но он уже не мог читать и напряженно ждал, заранее зная, что через несколько минут раздастся новый зевок, новый вздох.
В нем подымалась волна бессильной ярости; ему хотелось швырнуть книгу на пол и грубо сказать: «Слушай, если ты так устала, пойди да ляг!» Но вместо этого он, стиснув зубы, еще некоторое время сидел на месте, а когда уже не мог больше терпеть, вставал, выходил из гостиной и укрывался в своем кабинете. И вот сейчас он поймал себя на том, что поступает точно так же, что все как будто повторяется снова – из-за чего? Из-за каких-то поганых дров. Из-за мерзкого, тошнотворного запаха.
Он остался сидеть в кабинете и решил дождаться ужина там. Пока прислуга подавала на стол, уносила посуду, готовила ему постель и собиралась домой, стрелки часов подошли к девяти.
Он вернулся в гостиную. За время его отсутствия огонь в камине почти погас. Головешки, должно быть, честно пытались разгореться – они заметно уменьшились в размерах и глубже осели в очаге. Золы было не много, но от кучки тлеющих углей шел все тот же омерзительный запах. Он отыскал в кухне совок, вернулся с ним в гостиную и выгреб из очага золу и головешки. Совок, наверно, был мокрый, а может быть, из поленьев еще не испарились остатки влаги – так или иначе, головешки на глазах потемнели, и на них выступила какая-то пена. Он спустился в подвал, открыл дверцу котла и сбросил все с совка в топку.
Только тогда он вспомнил, что котел уже недели две как не топят – с началом весны центральное отопление обычно отключали – и что если он не протопит сейчас, головешки так и пролежат до будущей зимы. Он взял бумагу, спички, канистру с керосином, развел большой огонь и закрыл топку, с удовольствием слушая, как гудит в котле пламя. Ну вот, как будто все. Он постоял секунду, поднялся наверх и в закутке за кухней набрал щепок, чтобы снова затопить в гостиной. Пока он ходил за углем, пока подкладывал и разжигал растопку, прошло довольно много времени, но он делал все не торопясь и основательно, и когда уголь в камине наконец занялся, с облегчением уселся в кресло и раскрыл книгу.
Прошло минут двадцать, когда ему показалось, что где-то хлопает дверь. Он отложил книгу и прислушался. Нет, ничего. А, вот опять. Звук доносился со стороны кухни. Он встал и пошел посмотреть, в чем дело. Хлопала дверь, которая вела на лестницу в подвал. Он готов был поклясться, что, уходя, закрыл ее как следует. Видимо, защелка как-то отошла, и дверь раскрылась. Он включил за дверью свет и нагнулся осмотреть дверной замок. Вроде бы все в порядке. Он собирался уже снова закрыть и защелкнуть дверь, как вдруг почувствовал знакомый запах. Тот самый тошнотворный, сладковатый запах. Он просачивался наверх из подвала и растекался по кухне.
Вдруг его охватил безотчетный, почти панический страх. Что если запах ночью заполнит весь дом, проникнет во второй этаж, дойдет до спальни – и он задохнется во сне?.. Эта мысль была нелепа, почти безумна – и все же…
Он заставил себя снова сойти по лестнице в подвал. Пламя в топке уже не гудело; из котла не доносилось ни звука. Через щели вокруг дверцы тонкими зеленоватыми струйками выползал дым – и вместе с ним струился запах, который он почувствовал в кухне.
Он подошел и рывком открыл дверцу. Бумага и щепки прогорели до конца, но остатки яблоневых дров и не думали загораться. Они так и лежали беспорядочной грудой, обуглившиеся, почернелые, словно кости казненного на костре. Его замутило. Он сунул в рот носовой платок, чтобы подавить тошноту. Потом, плохо соображая, что делает, кинулся вверх по лестнице, схватил пустой совок и, орудуя щипцами и лопатой, стал вытаскивать головешки через узкую дверцу. Желудок у него то и дело сводили рвотные спазмы. Наконец он выгреб все и, нагрузив полный совок, прошел через кухню и открыл дверь на заднее крыльцо.
На этот раз ночь стояла безлунная; накрапывал дождь. Он поднял воротник и огляделся кругом, прикидывая, куда бы деть головешки. До огорода, где была компостная куча, надо было пройти пару сот шагов, и тащиться туда под дождем, в темноте не хотелось. Ближе было дойти до гаража – за ним, по ту сторону забора, росла густая высокая трава, и если бросить головешки туда, их никто не заметит. Он пересек усыпанный гравием автомобильный въезд и швырнул свою ношу в траву через забор, отделявший его землю от фермерской. Пусть лежат и гниют, пусть мокнут под дождем, покрываются грязью и плесенью – теперь ему нет до них дела. Главное – он избавился от них, выкинул вон, а дальнейшее его не касается.
Он возвратился в дом и еще раз проверил, крепко ли заперта дверь в подвал. Запах успел уже выветриться; воздух был чистый.
Он перешел в гостиную, чтобы согреться у огня, но озноб никак не проходил – он изрядно промок под дождем, да и желудок еще продолжало сводить, так что он чувствовал себя совершенно разбитым.
Ночью он плохо спал и наутро проснулся в довольно муторном состоянии. Болела голова, и во рту был неприятный вкус. По-видимому, приступ печени. Он решил посидеть день дома. Свою досаду он за завтраком сорвал на прислуге.
– Я вчера допоздна по вашей милости возился с камином и в результате расхворался, – сказал он ей. – А все яблоня, будь она неладна. Никакого проку, одна вонь – меня от этой вони чуть наизнанку не вывернуло. Можете порадовать Виллиса, когда он явится.
Она посмотрела на него недоверчиво.
– Извините ради бога, сэр. Я вчера сестре рассказала, так она тоже удивлялась. Никак в толк взять не могла. Яблоневое дерево всегда прекрасно горит, прямо роскошь считается топить яблоней.
– Я вам повторяю, эти дрова не горели, – сказал он, – и я больше ни видеть, ни слышать о них не желаю. А уж запах… До сих пор в горле ком, все нутро сводит от этого запаха.
Она поджала губы, повторила: «Извините, сэр» – и повернулась, чтобы выйти из столовой, но по дороге кинула взгляд на буфет, где стояла порожняя бутылка из-под виски. Секунду помедлив, она взяла бутылку, поставила ее на поднос, который держала в руках, и спросила:
– Бутылка больше не нужна, сэр? Можно забрать?
Разумеется, не нужна! Идиотский вопрос: видно ведь, что пустая! Но тут же он понял скрытый смысл этого вопроса: она хотела сказать, что нечего все валить на дым, что его плохое самочувствие вызвано совсем другими причинами, что он попросту перепил накануне. Неслыханная наглость!
– Пустую заберите, – сказал он, – и принесите полную.
Вперед ей наука: не будет соваться не в свое дело.
Несколько дней он чувствовал себя прескверно: голова кружилась, то и дело подташнивало. В конце концов он позвонил доктору и попросил его зайти. Доктор осмотрел его и без особого участия выслушал историю насчет дыма – больной и сам, рассказывая, сознавал, что все это звучит неубедительно.
– Печень пошаливает, – заключил доктор. – И небольшая простуда – ноги вы промочили, возможно, еще и съели что-то не то. Вот все вместе и вызвало такое состояние. Вряд ли один дым мог так на вас подействовать. Надо больше бывать на улице. Моцион для печени – полезнейшая вещь. Отчего вы не играете в гольф? Я не представляю себе, как бы я жил без гольфа. Каждый уик-энд играю обязательно. – Он хмыкнул, закрывая свой чемоданчик. – Попринимаете лекарство, я вам выпишу, и на вашем месте я бы начал выходить на воздух, как только установится погода. Уже тепло, теперь бы только солнышка побольше – и все тронется в рост. У вас вот-вот фруктовые деревья зацветут. Мои пока что не торопятся. – И, прощаясь, доктор добавил: – Не забывайте, вы не успели свыкнуться с потерей. Такие встряски бесследно не проходят. Вы еще остро чувствуете отсутствие жены, это естественно. Так что не сидите в четырех стенах, выходите, общайтесь с людьми. Всего наилучшего.
Больной оделся и спустился вниз. Конечно, доктор желает ему добра, но по существу этот визит – пустая трата времени. «Вы еще остро чувствуете отсутствие жены…» Ничегошеньки-то он не смыслит, этот доктор. Бедняжка Мидж… По крайней мере себе самому можно честно признаться, что ее отсутствие он воспринимал как облегчение, что он впервые за много лет почувствовал себя человеком: короче говоря, если забыть о нынешнем недомогании, ему никогда еще не было так хорошо.
За те дни, что он провел в постели, прислуга успела сделать в гостиной генеральную уборку – совершенно бессмысленное мероприятие, но так уж было заведено у Мидж: ежегодно с приближением весны весь дом переворачивался вверх дном. Гостиная приобрела чужой вид: все было вычищено, выскоблено, ни одной нужной бумажки на месте не найти, все книги и газеты сложены в аккуратные стопки. Какое все-таки неудобство, что приходится держать прислугу! Она так раздражала его, что он не раз готов был махнуть на все рукой и дать ей расчет. Как-нибудь он и сам бы о себе позаботился. Правда, его останавливала мысль о том, что каждый день придется что-то готовить, мыть грязные тарелки и заниматься подобной чепухой. Идеальный вариант был бы, конечно, поселиться где-нибудь на Востоке или на островах южных морей и взять в жены туземку. Это разом решает все проблемы. Тишина, безупречный уход, великолепная еда, никто не пристает с разговорами; а если захочется кой-чего еще, она всегда тут, всегда к твоим услугам – юная, покорная, ласковая… Никогда ни попреков, ни недовольства, истинно собачья преданность – и при этом веселый нрав и непосредственность ребенка… Да, они не дураки – все эти художники и прочие знаменитости, которые решались порвать с условностями цивилизации. Дай им бог…
Он подошел к окну и выглянул в сад. Дождь понемногу затихал; завтра, если будет хорошая погода, можно выйти на воздух, как советовал доктор. Доктор, кстати, верно заметил: фруктовые деревья вот-вот зацветут. Бутоны на молоденькой яблоньке готовы были распуститься; на одной ее ветке сидел черный дрозд, и ветка прогнулась и чуть покачивалась под тяжестью птицы. Сейчас эти полураскрытые бутоны, обрызганные капельками влаги, казались чуть розоватыми, но завтра, если выглянет солнце, они окутают все дерево пушистым облаком, ослепительно-белым на фоне голубого неба. Надо бы отыскать старый фотоаппарат, зарядить его и снять эту юную яблоньку в цвету. Остальные деревья тоже скорее всего расцветут в самые ближайшие дни. Только старая яблоня, та самая, выглядела так же уныло и безжизненно, как раньше, – а может быть, отсюда были просто незаметны ее мелкие бурые почки, если можно назвать их почками. Не зря же тогда обломился сук. Как видно, отживает свое. Ну и бог с ней.
Он отошел от окна и принялся перекладывать и переставлять все по-своему, пытаясь вернуть комнате ее обычный вид, – выдвигал и задвигал ящики, что-то вынимал, что-то клал обратно. На глаза ему попался красный карандаш – должно быть, когда-то завалился за книги, а прислуга, наводя чистоту, нашла его и положила на видное место. Он взял его, не торопясь очинил и старательно заострил кончик. В одном из ящиков он нашел нераспечатанный рулон фотопленки и выложил его на стол, чтобы утром зарядить аппарат. В этом же ящике, вперемешку со всякими бумажонками, лежала куча старых фотографий, в том числе десятки любительских снимков. Мидж когда-то ими занималась – разбирала, рассматривала, клеила в альбомы; потом, в годы войны, то ли потеряла интерес, то ли одолели другие заботы.
Весь этот хлам давно пора было выкинуть, сжечь. Знать бы в тот злополучный день, сколько этого старья здесь в ящиках! С такой растопкой, пожалуй, и мокрые поленья прогорели бы. К чему это все хранить? Хотя бы вот этот ужасный снимок Мидж, сделанный бог знает сколько лет назад, судя по платью и прическе – вскоре после замужества. Неужели она так взбивала волосы, носила этот пышный кок? Он ей совсем не шел – лицо у нее и в молодости было узкое и длинное. Платье с низким треугольным вырезом, в ушах болтаются серьги, на лице заискивающая, жалкая улыбка, рот кажется еще больше, чем был… И надпись в левом углу: «Родному Кусику от любящей Мидж». Он успел начисто забыть это идиотское прозвище. Ему становилось неловко, когда она называла его так при посторонних, и он всякий раз ей выговаривал. К счастью, довольно скоро она прекратила.
Он разорвал снимок пополам и бросил в огонь. Он стал сворачиваться в трубочку, потом потемнел и вспыхнул, и напоследок в пламени мелькнула улыбка. Родному Кусику… Внезапно он вспомнил платье, которое было на Мидж в тот день, – зеленое, совершенно не ее цвет, она казалась в нем еще бледнее. И купила она его для торжественного случая, – кажется, какие-то знакомые праздновали годовщину своей свадьбы, и им пришла идея собрать вместе всех соседей и друзей, которые поженились приблизительно в одно время с ними. Прислали приглашение и им с Мидж.
Был шикарный обед, море шампанского, какие-то застольные речи, общее веселье, смех, шутки, часто малопристойные; он припомнил, что когда все стали разъезжаться и они с Мидж садились в машину, хозяин с хохотом крикнул им вслед: «Идешь объясняться – не забудь про цилиндр[3 - Слово «цилиндр» (top hat) в 1920–1930-х гг. употреблялось в Англии как шутливый эвфемизм для обозначения презерватива.]: незаменимая вещь!» Он не столько смотрел на Мидж, сколько чувствовал ее молчаливое присутствие. Она сидела рядом в своем дурацком зеленом платье, с жалкой, просительной улыбкой на лице – такой же, как на только что сгоревшей фотографии, – сидела напряженно и тревожно, не зная, как реагировать на сомнительную шутку, которую отпустил пьяный хозяин и которая неожиданно громко прозвучала в вечернем воздухе; и при этом ей хотелось казаться вполне современной, хотелось угодить мужу – но больше всего хотелось, чтобы он повернулся к ней, обратил на нее внимание: она ожидала какого-то знака, жеста…
Когда он поставил машину в гараж и вернулся в дом, она ждала его – неизвестно зачем. Пальто она сняла и бросила на диван – как видно, для того, чтобы еще покрасоваться в вечернем платье, – и стояла посреди гостиной, улыбаясь своей всегдашней неуверенной улыбкой.
Он зевнул, уселся в кресло и раскрыл какую-то книжку. Она постояла минуту-другую, потом взяла с дивана пальто и медленно пошла наверх. По-видимому, вскоре после того вечера и была сделана фотография, которую он порвал. «Родному Кусику от любящей Мидж». Он подбросил в огонь сухих веток. Они затрещали, занялись, и остатки снимка превратились в пепел. Сегодня огонь горел нормально…
На другой день настала ясная и теплая погода. Солнце светило вовсю, кругом распевали птицы. Внезапно его потянуло в Лондон. В такой день хорошо пройтись по Бонд-стрит, полюбоваться столичной толпой. Можно заехать к портному, зайти постричься, съесть в знакомом баре дюжину устриц… Он чувствовал себя вполне здоровым. Впереди было много приятных часов. Можно будет и в театр заглянуть, на какое-нибудь дневное представление.
День прошел в точности так, как он предполагал, – беззаботный, долгий, но не утомительный день, внесший желанное разнообразие в вереницу будней, похожих друг на друга. Домой он вернулся около семи вечера, предвкушая порцию виски и сытный ужин. Погода была такая теплая, что пальто ему не понадобилось; тепло было даже после захода солнца. Сворачивая к дому, он помахал рукой соседу-фермеру, который как раз проходил мимо ворот, и крикнул:
– Отличный денек!
Фермер кивнул, заулыбался и крикнул в ответ:
– Хоть бы подольше постояла погода!
Симпатичный малый. Они сохранили приятельские отношения с военных лет, с той поры, как он приходил на ферму поработать на тракторе.
Он поставил машину в гараж, налил себе виски, выпил и в ожидании ужина вышел прогуляться по саду. Как много перемен за один только солнечный день! Из земли проклюнулось несколько белых и желтых нарциссов; живые изгороди покрылись первой нежной зеленью, а на яблонях дружно распустились бутоны, и все они стояли в праздничном белом наряде. Он подошел к своей любимице, молоденькой яблоньке, и дотронулся до нежных лепестков, потом слегка качнул одну ветку. Ветка была крепкая, упругая, такая уж наверняка не обломится. Запах от цветов шел легкий, едва уловимый, но еще денек-другой – и воздух наполнится тонким, нежным ароматом. Как чудесно пахнет яблоневый цвет – скромно, не резко, не навязчиво. Надо самому искать и находить этот запах, как ищет и находит его пчела. И вдохнув этот запах однажды, ты запомнишь его на всю жизнь – он всегда будет радовать и утешать тебя… Он потрепал ладонью яблоньку и пошел ужинать.
На другое утро, за завтраком, кто-то постучал в окно столовой. Прислуга пошла узнать, в чем дело; оказалось, что Виллис просит разрешения с ним поговорить. Он распорядился позвать его в дом.
Лицо у садовника было мрачное. Что там еще стряслось?
– Вы уж извините, сэр, – начал он, – только на меня тут мистер Джексон напустился. Возмущается.
Джексон был его сосед, фермер.
– Чем это он возмущается?
– Да вот говорит, что я накидал ему через забор каких-то головешек, а у него кобыла ходит с жеребеночком, и жеребенок будто бы ногу повредил и захромал. У меня отродясь такой моды не было – через забор кидать. А он свое талдычит. Мол, ценный жеребенок, а теперь неизвестно, что с ним делать, кто же хромого купит.
– Ну, вы его, надеюсь, успокоили? Сказали, что это недоразумение?
– Да сказать-то я сказал, сэр. Но кто-то на его участок и правда головешек накидал. Он меня повел, показал это место. Прямо против гаража. Я пошел ради интереса, и верно – лежат в траве головешки. Я решил по первости вам доложить, а потом уж кухарку пытать, а то сами знаете, как бывает, начнутся всякие обиды.
Он почувствовал на себе Виллисов пристальный взгляд. Придется признаваться, делать нечего. Впрочем, садовник, по существу, сам виноват.