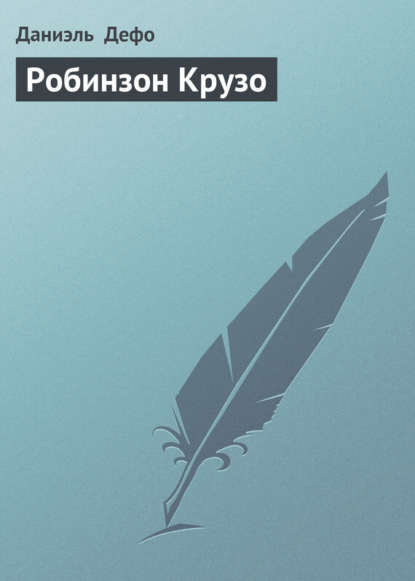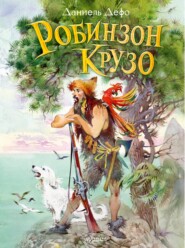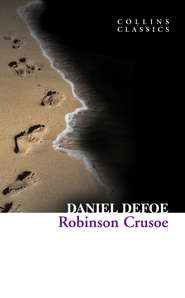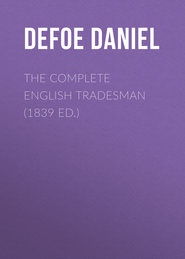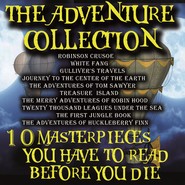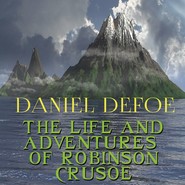По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Робинзон Крузо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне пришлось теперь горько пожалеть, что я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из нее ход наружу, за пределами моего укрепления. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену: двойной ряд деревьев, которые я лет двенадцать назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот – так часто были насажены деревья и так сильно они разрослись. Оставалось только забить кольями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную, крепкую стену. Так я и сделал.
Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Внутреннюю стену, как уже знает читатель, я укрепил земляной насыпью футов в десять толщиной. Это было еще тогда, когда я расширил пещеру: по мере того как выкапывал землю, я сваливал ее к ограде и плотно утаптывал. Наружная же стена, как уже сказано, состояла из двойного ряда деревьев, между которыми я набил кольев, заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что только могло придать прочности моему брустверу и что оказалось у меня под рукой. Но я оставил в наружной стене семь небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету (я уже говорил, что перевез к себе с корабля семь мушкетов). Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь две минуты я мог разрядить все семь ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления: мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово.
Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее двадцати тысяч штук. Но между деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев.
Через два года перед моим жильем была уже молодая рощица, а еще лет через пять-шесть его обступал высокий лес, почти непроходимый – так часто были насажены в нем деревья и так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее (так как я не оставил аллеи в лесу), я пользовался двумя лестницами, приставляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лестницу, так что, когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже допуская, что какому-нибудь смельчаку удалось бы благополучно спуститься с горы в мою сторону, он очутился бы все-таки не в самой крепости, а за пределами ее наружной стены.
Итак, я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать моя изобретательность, и, как читатель вскоре увидит, они были не совсем бесполезны, хотя во время работ опасность, от которой я хотел себя оградить, была скорее воображаемой, внушенной моими страхами.
Но, прилагая все старания, чтобы оградить себя от вторжения, я в то же время не забрасывал и других своих дел. Я по-прежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но и силы и время. Выгода была так ощутительна, что мне, разумеется, не хотелось лишиться ее и потом начинать все сначала.
Чтобы избежать этого несчастья, по зрелом размышлении, я решил, что у меня только два способа сохранить коз: или загонять на ночь все стадо в пещеру (которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели), или устроить еще два или три отдельных загончика подальше один от другого, но непременно в укромных местах, где бы их было трудно найти, и поместить в каждом из них по полдюжине молодых коз: тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз и я мог бы без особенных хлопот развести новое стадо. В конце концов я остановился на последнем проекте как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда.
Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и наконец выбрал один уголок, такой уединенный, что лучшего нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса – того самого леса, где я заблудился, когда возвращался домой с восточной части острова. Вся полянка занимала около трех акров; лес обступал ее со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду; во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах.
Я немедленно принялся за работу, и недели через четыре мой новый загон был огорожен настолько плотно, что можно было перевести в него коз. Теперь это не представляло большого труда, так как новые поколения коз утратили свою природную дикость. Я, не откладывая, отделил от стада десять молодых коз и двух козлов и перевел их в новый загон. Еще некоторое время я употребил на окончательное укрепление изгороди, и делал это не торопясь, очень медленно.
И все эти труды, все эти хлопоты порождены были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке, ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близ него. После своего несчастного открытия вот уже два года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. С сожалением должен прибавить, что постоянная душевная тревога, в которой я пребывал в этот период, весьма дурно отразилась и на моих религиозных чувствах. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, что они убьют меня и съедят, и этот страх до такой степени угнетал мою душу, что лишь в редкие минуты я мог обращаться к Творцу с подобающим смирением и спокойным, умиленным духом. Если я и молился, то скорее как человек, который взывает к Богу в своем отчаянии, потому что видит свою близкую гибель. И я могу удостоверить на основании личного опыта, что к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление, и что подавленный страхом человек так же мало предрасположен к подлинно молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном одре; страх – болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг, а как помеха молитве страх действует даже сильнее телесного недуга, ибо молитва есть духовный, а не телесный акт.
Но возвращаюсь к рассказу. Обеспечив себя таким образом живым провиантом, я стал подыскивать другое укромное местечко для новой партии коз. Как-то раз, во время этих поисков, я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Не доходя до берега, я поднялся на пригорок, и, когда передо мной открылось море, мне показалось, что вдали виднеется лодка. В одном из сундуков, перевезенных мною с нашего корабля, я нашел несколько подзорных труб, но их со мной не было, и я не мог различить, была ли то действительно лодка, хотя проглядел все глаза, всматриваясь в даль. Спускаясь к берегу с пригорка, я уже ничего не видел; так я до сих пор не знаю, что это был за предмет, который я принял за лодку. Но с того дня я дал себе слово никогда не выходить из дому без подзорной трубы.
Добравшись до берега (это была часть острова, где, как уже сказано, я раньше не бывал), я не замедлил убедиться, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, я убедился, что, не попади я по особенной милости Провидения на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещения ими моего острова – самая обыкновенная вещь и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры. Но об этом я еще расскажу подробнее.
То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями: черепами, скелетами, костями рук и ног. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, думал я, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где, по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов, убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую, плотно утрамбованную площадку, посреди которой виднелись остатки костра: здесь-то, вероятно, и сидели бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры.
Все это до того меня поразило, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу, – ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способной дойти до такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища: я ощущал страшную тошноту и, вероятно, лишился бы чувств, если б сама природа не пришла мне на помощь, очистив мой желудок обильной рвотой. Мне стало немного легче, но ни одной лишней минуты я не мог оставаться в этом ужасном месте; со всей быстротой, на какую был способен, я поднялся на пригорок и устремился назад, к своему жилью.
Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. В глубоком умилении поднял я глаза к небу и, обливаясь слезами, возблагодарил Создателя за то, что он судил мне родиться в иной части света, где нет таких зверей в человеческом образе. Благодарил я его и за то, что он послал мне в моей горькой доле столько утех, с избытком искупавших ее, а главное, за то, что мне дано было познать всю его неизреченную благость и обрести утешение в надежде на его всепрощение, ибо это было великое счастье, за которое можно было вытерпеть и не такие страдания, какие выпали мне.
В этом умиленном настроении вернулся я в свой замок и с того дня стал меньше бояться дикарей. На основании своих наблюдений я убедился, что эти варвары никогда не приезжали на остров за добычей – потому ли, что ни в чем не нуждались, или, может быть, потому, что не рассчитывали чем-нибудь поживиться в таком пустынном месте: в лесистой части острова они, несомненно, бывали не раз, но, вероятно, не нашли там для себя ничего подходящего. Достоверно было одно: я прожил на острове без малого восемнадцать лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнулся бы на них по собственной неосторожности. Но этого нечего было опасаться, так как единственной моей заботой было как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере до тех пор, пока мне не представится лучшее общество, чем общество каннибалов.
Однако ужас и отвращение, внушенные мне этими дикими извергами и их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, повергли меня в мрачное настроение, и около двух лет я просидел в той части острова, где были расположены мои земли, то есть две мои усадьбы – крепость под горой и лесная дача, и та полянка в чаще леса, на которой я устроил загон, причем его я посещал только ради коз; мое отвращение к дикарям, этим отродьям ада, было таково, что я боялся встретиться с ними не меньше, чем с самим дьяволом. За это время я ни разу не сходил взглянуть на свою пирогу: я даже стал подумывать о сооружении другой лодки, так как окончательно решил, что не стану и пытаться привести свою лодку с той стороны острова. Я не имел ни малейшего желания столкнуться в море с дикарями, ибо знал, какая участь меня ожидает, если попадусь им в руки.
Между тем время и уверенность в том, что дикари не могут открыть мое убежище, сделали свое дело: я перестал их бояться и зажил своей прежней мирной жизнью, с той лишь разницею, что теперь я стал осторожнее и принимал все меры, чтоб не попасться им на глаза. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не привлечь внимания дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом; несколько диких коз, которых я съел за это время, были пойманы с помощью силков или западней, так что за два года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мной на корабле, и подвешивал на ремне через плечо остро отточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий: ружье, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен.
Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда настороже, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в свое прежнее покойное русло. Оценивая свое положение, я с каждым днем все больше убеждался, что оно далеко не плохо по сравнению с участью многих других, да, наконец, и сам я мог быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так ссудил мне Господь. Насколько меньше роптали бы мы на судьбу и насколько больше были бы признательны Провидению, если бы, размышляя о своем положении, брали для сравнения худшее, а не лучшее, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы.
В моем теперешнем положении я почти ни в чем не испытывал недостатка: мне кажется, что страх этих извергов-дикарей и, как последствие страха, вечная забота о своей безопасности сделали меня более равнодушным к житейским удобствам и притупили мою изобретательность. Я, например, так и не привел в исполнение ни одного своего проекта, который некоторое время сильно занимал меня. Мне очень хотелось попробовать сделать из ячменя солод и сварить пиво. Затея была довольно фантастическая, и я часто упрекал себя за свою наивность. Мне было хорошо известно, что для осуществления ее мне многого не хватает и достать этого невозможно. Прежде всего бочек для хранения пива, которых, как уже знает читатель, я никогда не мог сделать, хотя потратил много недель и месяцев на бесплодные попытки добиться толку в этой работе. Затем у меня не было ни хмеля, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чем. И тем не менее я твердо убежден, что, не нагони на меня тогда эти проклятые дикари столько страху, я приступил бы к осуществлению моей затеи и, может быть, добился бы своего, ибо, раз уж я затевал какое-нибудь дело, я редко бросал его, не доведя до конца.
Но в те времена моя изобретательность направилась совсем в другую сторону. День и ночь я думал только о том, как бы мне истребить несколько этих чудовищ во время их зверских развлечений и, если можно, спасти несчастную жертву, обреченную на съедение, которую они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя бы напугать их хорошенько и таким образом отвадить от моего острова. Но моя книга вышла бы слишком объемистой, если бы я задумал рассказать все хитроумные планы, какие слагались по этому поводу в моей голове. Однако это была пустая трата времени. Чтобы наказать людоедов, надо вступить с ними в бой, а что мог сделать один человек с двумя-тремя десятками этих варваров, вооруженных копьями и луками, из которых они умели попадать в цель не хуже, чем я из ружья.
Приходило мне в голову вырыть яму в том месте, где они разводили огонь, и заложить в нее пять-шесть фунтов пороху. Когда они зажгут свой костер, порох воспламенится и взорвет все, что окажется поблизости. Но мне, во-первых, было жалко пороху, которого у меня оставалось не больше барреля, а во-вторых, я не мог быть уверен, что взрыв произойдет именно тогда, когда они соберутся у костра. В противном случае какой был бы из этого толк? Самое большее, что некоторых из них опалило бы порохом. Конечно, они испугались бы, но настолько ли, чтобы больше не появляться на острове? Так я и бросил эту затею. Думал я также устроить в подходящем месте засаду: спрятаться с тремя заряженными ружьями и выстрелить в дикарей в разгар их кровавой оргии, с полной уверенностью, что уложу на месте или раню двух-трех человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетами и тесаком. Я не сомневался, что при таком способе действия сумею управиться со всеми своими врагами, будь их хоть двадцать человек. Я несколько недель носился с этой мыслью; она до такой степени меня поглощала, что часто мне снилось, будто я стреляю в дикарей или бросаюсь на них из засады.
На некоторое время я до того увлекся этим проектом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады против дикарей. Я начал посещать место их сборищ и даже как-то освоился с ним. И все же в те минуты, когда моя душа жаждала мести и ум был полон кровожадных планов избиения отвратительных, пожирающих друг друга выродков, ужас при виде страшных следов кровавой расправы человека с человеком несколько глушил мою злобу.
Место для засады было наконец найдено, то есть, собственно говоря, я подыскал два укромных местечка: с одного из них я предполагал стрелять в дикарей, другое же должно было служить мне пунктом для предварительных наблюдений. Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, оставаясь невидимым, следить за каждой приближавшейся к острову лодкой. Завидев издали пирогу с дикарями, я мог, прежде чем они успели бы высадиться, незаметно пробраться в ближайший лесок. Там в одном дереве было такое большое дупло, что я легко мог в нем спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за дикарями и, улучив момент, когда они столпятся в кучу и будут, таким образом, представлять удобную мишень, стрелять, но без промаха, так, чтобы уложить первым же выстрелом трех-четырех человек.
Как только было выбрано место засады, я стал готовиться к походу. Я тщательно осмотрел и привел в порядок свои пистолеты, оба мушкета и охотничье ружье. Мушкеты я зарядил семью пулями каждый: двумя большими кусками свинца и пятью пистолетными пулями; в охотничье ружье я всыпал хорошую горсть самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль еще для трех зарядов и собрался в поход.
Когда мой план кампании был окончательно разработан и даже неоднократно приведен в исполнение в моем воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в трех милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца два или три я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу, но наконец это мне надоело, ибо за все три месяца ни разу не увидел ничего похожего на лодку не только у берега, но и на всем пространстве океана, какое можно охватить глазом через подзорную трубу.
До тех пор, пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, мое воинственное настроение не ослабевало, и я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Избиение двух-трех десятков почти безоружных людей казалось мне делом самым обыкновенным. Ослепленный негодованием, которое породило в моей душе отвращение к противоестественным нравам местного населения, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле Провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме своих извращенных инстинктов и зверских страстей. Я не подумал, что если премудрое Провидение терпит на земле таких людей и терпело их, быть может, несколько столетий, если оно допускает существование столь бесчеловечных обычаев и не препятствует целым племенам совершать ужасные деяния, на которые могут быть способны только выродки, окончательно забытые небом, то, стало быть, не мне быть им судьей. Но когда, как уже сказано, мои ежедневные бесплодные выслеживания начали мне надоедать, тогда стал изменяться и мой взгляд на задуманное мною дело. Я стал спокойнее и хладнокровнее относиться к этой затее; я спросил себя, какое я имел право брать на себя роль судьи и палача этих людей. Пускай они преступны, но, коль скоро сам Бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло безнаказанно, то значит, на то его воля. Как знать, быть может, истребляя друг друга, они являются лишь исполнителями его приговоров? Во всяком случае, мне эти люди не сделали зла: по какому же праву я хочу вмешаться в их племенные распри? На каком основании я должен отомстить за кровь, которую они так неразборчиво проливают? Я рассуждал следующим образом: «Почем я знаю, осудит ли их Господь? Несомненно одно: в глазах каннибалов каннибализм не есть преступление, их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Они грешат по неведению и, совершая свой грех, не бросают этим вызова Божественной справедливости, как делаем мы, когда грешим. Они не считают преступлением убить военнопленного – как мы не считаем преступным зарезать быка, и человеческое мясо они едят так же спокойно, как мы баранину».
Эти размышления привели меня к неизбежному выводу, что я был не прав, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами как над убийцами. Теперь мне было ясно, что они не более убийцы, чем те христиане, которые убивают военнопленных или – что случается еще чаще – предают мечу, никому не давая пощады, целые армии, даже когда неприятель положил оружие и сдался.
Затем мне пришло в голову, что, каких бы зверских обычаев ни придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели, так за что же мне их убивать? Вот если б они напали на меня и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Но пока я не был в их власти, пока они не знали даже о моем существовании и, следовательно, не могли иметь никаких коварных замыслов против меня, до тех пор и я не имел права на них нападать. Это было бы нисколько не лучше поведения испанцев, прославившихся своими жестокостями в Америке, где они истребили миллионы людей. Положим, то были идолопоклонники и варвары; но при всех своих варварских обычаях и кровавых религиозных обрядах вроде человеческих жертвоприношений перед испанцами они ни в чем не провинились. Недаром же в наше время все христианские народы Европы и даже сами испанцы возмущаются этим истреблением американских народностей и говорят о нем как о бойне, как о кровавой и противоестественной жестокости, которая не может быть оправдана ни перед Богом, ни перед людьми. С тех времен самое имя испанца внушает ужас всякой человеческой душе, исполненной человеколюбия и христианского сострадания, как будто Испания такая уж страна, которая порождает людей, неспособных проникнуться христианскими правилами, чуждых всякому великодушному порыву, не знающих самой обыкновенной жалости к несчастным, свойственной благородным сердцам.
Эти рассуждения охладили мой пыл, и я стал понемногу отказываться от своей затеи, придя к выводу, что я не вправе убивать дикарей и что мне нет никакой надобности вмешиваться в их дела, пока они не трогают меня. Мне нужно заботиться только о предотвращении их нападения, если же они меня откроют и нападут на меня, я сумею исполнить свой долг.
С другой стороны, я подумал, что осуществление моего плана не только не принесет мне избавления от дикарей, но приведет меня к гибели. Ведь только в том случае я могу быть уверен, что избавился от них, если мне удастся перебить их всех до единого, и не только всех тех, которые высадятся в следующий раз, но и всех, которые будут являться потом. Если же хотя бы один из них ускользнет и расскажет дома о случившемся, они нагрянут ко мне тысячами отомстить за смерть своих соплеменников! И я таким образом навлеку на себя верную гибель, которая в настоящее время вовсе мне не угрожала.
Взвесив все эти доводы, я решил не вмешиваться в дела варваров, так как это было бы с моей стороны и безнравственно и неблагоразумно, и что мне следует всячески скрываться от них и как можно лучше скрывать свои следы, чтоб дикари не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо.
Религия вкупе с благоразумием укрепила меня в убеждении, что я был не вправе вынашивать кровавые замыслы уничтожения невинных людей, невинных, во всяком случае, по отношению ко мне. Что же до их вины друг перед другом, то это меня не касалось. То был их национальный обычай, и мне следовало доверить возмездие Господу нашему, держащему все нации в деснице своей и ведающему, какое преступление какого наказания заслуживало и какими путями воздастся отмщение.
Все это стало столь очевидно для меня, что я почувствовал величайшее облегчение, что не успел совершить поступка, который теперь рассматривал как сознательное убийство; на коленях, смиренно благодарил я Господа, что он не допустил меня до кровопролития, умоляя его и впредь защищать меня, дабы я не попался в руки варваров и не принужден был сам поднять на них руку, либо дать мне какой-либо ясный знак свыше, что я вправе это сделать для защиты собственной жизни.
В таком состоянии духа я пробыл около года. Все это время я был так далек от каких-либо поползновений расправиться с дикарями, что ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своего недавнего пребывания на берегу; я боялся, как бы при виде этих извергов во мне снова не заговорило желание хорошенько проучить их и я не соблазнился удобным случаем застать их врасплох. Я только увел оттуда свою лодку и переправил ее на восточную сторону острова, где для нее нашлась очень удобная бухточка, защищенная со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что благодаря течению дикари ни за что не решатся высадиться в этой бухточке.
Я перевел свою лодку со всей ее оснасткой, с самодельной мачтой и самодельным парусом и чем-то вроде якоря (впрочем, это приспособление едва ли можно было назвать якорем или даже кошкой; но лучшего я сделать не мог). Словом, я убрал с того берега все до последней мелочи, чтобы не оставалось никаких признаков лодки или человеческого жилья на острове.
Кроме того, я, как уже сказано, жил более замкнуто, чем когда-либо, и без крайней необходимости не выползал из своей норы. Правда, я регулярно ходил доить коз и присматривать за своим маленьким стадом в лесу, но это было в противоположной стороне острова, так что я не подвергался ни малейшей опасности. Можно было с уверенностью сказать, что дикари приезжали на остров не за добычей и, следовательно, не ходили в глубь острова. Я не сомневался, что они не раз побывали на берегу и до и после того, как, напуганный сделанным мною открытием, я стал осторожнее. Я с ужасом думал о том, какова была бы моя участь, если бы, не подозревая о грозящей мне опасности, я случайно наткнулся на них в то время, когда, полунагой и почти безоружный (я брал тогда с собой только ружье, зачастую заряженное одной мелкой дробью), я беззаботно разгуливал по всему острову в поисках дичи, обшаривая каждый кустик. Что было бы со мной, если бы вместо отпечатка человеческой ноги я увидел бы вдруг человек пятнадцать – двадцать дикарей и они погнались бы за мной и, разумеется, настигли бы меня, потому что дикари бегают очень быстро?
От одной мысли об этом у меня сжималось сердце и мутился ум: ведь я был бы не в силах сопротивляться им; да и так растерялся бы, что не подумал предпринять даже то немногое, что было в моих силах, и уж, во всяком случае, сделал бы для своего спасения меньше, чем мог сделать теперь, когда я успел обдумать положение и приготовиться к обороне. Словом, когда я принимался думать обо всем этом, на меня нападала тоска, от которой я иной раз подолгу не мог освободиться. Но в конце концов мои мрачные мысли разрешились глубокой благодарностью Провидению, избавившему меня от стольких неведомых мне опасностей и бед, которые я сам не мог бы предусмотреть, не имея ни малейшего представления о несчастьях, мне грозивших, и даже вообще не подозревая о существовании такой возможности.
Меня теперь все чаще посещала одна мысль, неоднократно приходившая мне в голову и раньше, с того времени, как я впервые уразумел, как неустанно печется о нас милосердный Господь, охраняя нас от опасностей, уснащающих наш жизненный путь. Как часто мы, сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед! В минуты сомнения, когда человек колеблется, когда он, так сказать, стоит на распутье, не зная, по какой ему дороге идти, и даже тогда, когда он выбрал дорогу и уже готов вступить на нее, какой-то тайный голос удерживает его. Казалось бы, все – природные влечения, симпатии, здравый смысл, даже ясно осознанная определенная цель – зовет его на эту дорогу, а между тем его душа не может стряхнуть с себя необъяснимое влияние неизвестно откуда исходящего давления неведомой силы, не пускающей его туда, куда он был намерен идти. И потом всегда оказывается, что если б он пошел по той дороге, которую выбрал сначала и которую, по его собственному сознанию, должен был выбрать, она привела бы его к гибели. Под влиянием этих и подобных им размышлений у меня сложилось такое правило жизни: в минуты колебания смело следуй внушению внутреннего голоса, если услышишь его, хотя бы, кроме этого голоса, ничто не побуждало тебя поступить так, как он тебе советует. В доказательство безошибочности этого правила я мог бы привести множество примеров из своей жизни, особенно из последних лет моего пребывания на злополучном острове, не считая многих случаев, которые прошли для меня незамеченными и на которые я непременно обратил бы внимание, если бы всегда смотрел на эти вещи такими глазами, как смотрю теперь. Но никогда не поздно поумнеть, и я не могу не посоветовать всем рассудительным людям, чья жизнь сложилась так же необычайно, как моя – да пусть хоть и менее необычайно, – никогда не пренебрегать внушениями этого Божественного тайного голоса, от какого бы невидимого разума он ни исходил. Для меня несомненно – хотя я и не могу этого объяснить, – что в этих таинственных указаниях мы должны видеть доказательство общения душ, существования связи между телесным и бесплотным миром. Мне представится случай привести несколько замечательных примеров этого общения при дальнейшем описании моей одинокой жизни на этом печальном острове.
Я думаю, читателю не покажется странным, когда я ему скажу, что сознание вечно грозящей опасности, под гнетом которого я жил последние годы, и никогда не покидавшие меня страх и тревога убили во мне всякую изобретательность и положили конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и домашних удобств. Мне было не до забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полена, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное, на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес все те поделки (в том числе и гончарную мастерскую), для которых требовался огонь, в новое помещение, которое я, к несказанной моей радости, нашел в лесу; это была природная пещера в скале, очень просторная внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы находился у самого входа в нее; только человеку, который, как я, нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру.
Устье пещеры находилось под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь.
Как уже сказано, я боялся разводить огонь подле моего жилья – боялся из-за дыма; а между тем не мог же я не печь хлеба, не варить мяса, вообще обходиться без стряпни! Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу, перетаскивал домой готовый уголь и жег его вместо дров без риска выдать дымом мое местопребывание.
Но это между прочим. Так вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход; я полез в него, хоть и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в два человеческих роста. Но сознаюсь, что вылез оттуда гораздо скорее, чем залез. И немудрено: всматриваясь в темноту (так как в глубине пещеры было совершенно темно), я увидел два горящих глаза какого-то существа – человека или дьявола, не знаю, – они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникающий в пещеру снаружи и падавший на них.
Немного погодя я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил двадцать лет один-одинешенек среди океана, тому нечего бояться черта, сказал я себе. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня! И, набравшись храбрости, захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад, перепуганный чуть ли не больше прежнего: я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли, затем какие-то прерывистые звуки вроде бормотания и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса: холодный пот выступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом, так что, будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы. Тем не менее я не потерял присутствия духа: стараясь ободрить себя мыслью, что Всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед и при свете факела, который я держал над головой, увидел на земле огромного страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии: по-видимому, он околевал от старости.
Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. Пускай его лежит, покуда жив, подумал я тогда; если он меня напугал, то, наверно, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда.
Оправившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая – около двенадцати квадратных футов, – крайне бесформенная: ни круглая, ни квадратная, – было ясно, что здесь работала одна природа, без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине ее отверстие, уходившее еще дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведет этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него, но решил прийти сюда снова на другой день со свечами, с коробочкой для трута, которую я смастерил из ружейного замка, и горящим углем в миске.
Так я и сделал. Я взял с собой шесть больших свечей собственного изделия (к тому времени я научился делать очень хорошие свечи из козьего жира) и вернулся в пещеру. Подойдя к узкому ходу в глубине пещеры, о котором было сказано выше, я вынужден был стать на четвереньки и ползти в таком положении десять ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигом с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведет этот ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает все больше расширяться, и тут глаза мои были поражены зрелищем, великолепнее которого я на моем острове ничего не видал. Я стоял в просторном гроте футов в двадцать вышиной; пламя моих двух свечей отражалось от стен и свода, и они отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были ли то алмазы, или другие драгоценные камни, или же – что казалось всего вернее – золото?
Я находился в восхитительном, хотя и совершенно темном, гроте с сухим и ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесени или сырости; нигде ни следа отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство – узкий ход, но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого трудно было сыскать. Я был в восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те свои вещи, которыми я особенно дорожил, и прежде всего порох и все запасное оружие, а именно: два охотничьих ружья (всех ружей у меня было три) и три из восьми находившихся в моем распоряжении мушкетов. Таким образом, в моей крепости осталось только пять мушкетов, которые у меня всегда были заряжены и стояли на лафетах, как пушки, у моей наружной ограды, но всегда были к моим услугам, если я собирался в какой-нибудь поход.
Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только на три, на четыре дюйма кругом; подмокший порох затвердел и ссохся в крепкую корку, в которой остальной порох лежал, как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател еще фунтов на шестьдесят хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я перенес в мой грот для большей сохранности и никогда не держал в своей крепости более трех фунтов на всякий случай. Туда же, то есть в грот, я перетащил и весь свой запас свинца, из которого я делал пули.
Я воображал себя в то время одним из древних великанов, которые, говорят, жили в расщелинах скал и в пещерах, неприступных для простых смертных. Пусть хоть пятьсот дикарей рыщут по острову, разыскивая меня: они не откроют моего убежища, говорил я себе, а если даже и откроют, так все равно не посмеют проникнуть ко мне.