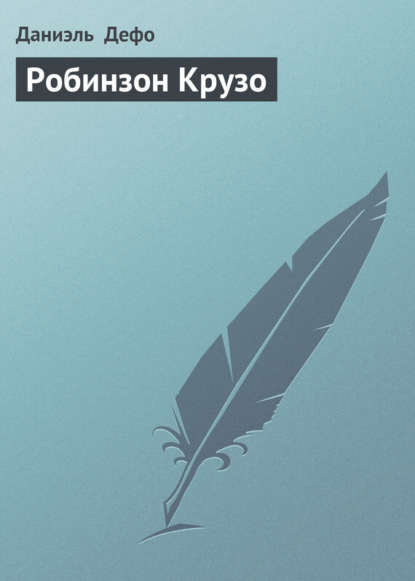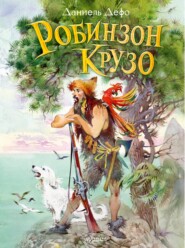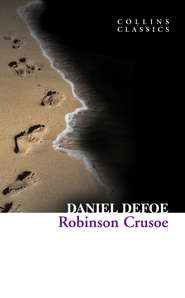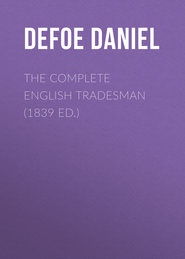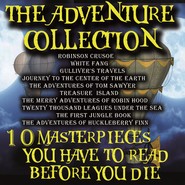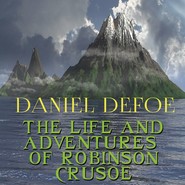По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Робинзон Крузо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Долго в моей душе шла борьба, но наконец страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка, и я решил захватить одного из дикарей, чего бы это мне ни стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Но сколько я ни ломал голову, ничего у меня не выходило. В конце концов я решил подстеречь дикарей, когда они высадятся на остров, предоставив остальное случаю и тем соображениям, какие будут подсказаны обстоятельствами.
Согласно этому решению, я принялся караулить и так часто выходил из дому, что мне это смертельно наскучило: в самом деле, более полутора лет провел я в напрасном ожидании. Все это время я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечность острова смотреть, не подъезжают ли к берегу лодки с дикарями, но лодки не показывались. Эта неудача очень меня огорчала и волновала, но, не в пример другим подобным случаям, мое желание достигнуть намеченной цели на этот раз нисколько не ослабевало, напротив, чем больше оттягивалось его осуществление, тем больше оно обострялось. Словом, насколько я прежде был осторожен, стараясь не попасть на глаза дикарям, настолько же нетерпеливо я теперь искал встречи с ними.
В своих мечтах я воображал, что справлюсь даже не с одним, а с двумя-тремя дикарями и сделаю их своими рабами, готовыми беспрекословно исполнять все мои приказания, поставив их в такое положение, чтобы они не могли нанести мне вреда. Я долго тешился этой мечтой, но случая осуществить ее все не представлялось, ибо дикари очень долго не показывались.
Прошло уже полтора года с тех пор, как я составил свой замысел, поэтому я начал уже считать его неосуществимым. Представьте же себе мое изумление, когда однажды ранним утром я увидел на берегу, на моей стороне острова, по меньшей мере пять индейских пирог. Все они стояли пустые: приехавшие в них дикари куда-то скрылись. Я знал, что в каждую лодку садится обыкновенно по четыре, по шесть человек, а то и больше, и, сознаюсь, меня весьма смущала многочисленность прибывших гостей. Я решительно не знал, как я справлюсь один с двумя-тремя десятками дикарей. Обескураженный, расстроенный, я засел в своей крепости, однако сделал все заранее обдуманные приготовления для атаки и решил действовать, если будет нужно. Я долго ждал, прислушиваясь, не доносится ли шум со стороны дикарей, но наконец, сгорая от нетерпения узнать, что происходит, поставил ружье под лестницей и полез на вершину холма обыкновенным своим способом – прислоняя лестницу к уступу. Добравшись до вершины, я стал таким образом, чтобы голова моя не высовывалась над холмом, и принялся смотреть в подзорную трубу. Дикарей было не менее тридцати человек. Они развели на берегу костер и что-то стряпали на огне. Я не мог разобрать, как они стряпали и что именно, я видел только, что они плясали вокруг костра с нелепыми ужимками и прыжками.
Вдруг несколько человек отделились от танцующих и побежали в ту сторону, где стояли лодки, и вслед за тем я увидел, что они тащат к костру двух несчастных, очевидно, предназначенных на убой, которые, должно быть, лежали связанные в лодках. Одного из них сейчас же повалили, ударив по голове чем-то тяжелым (дубиной или деревянным мечом, какие употребляют дикари), и тащившие его люди немедленно принялись за работу: распороли ему живот и начали его потрошить. Другой пленник стоял тут же, ожидая своей очереди. В этот момент несчастный, почувствовав себя на свободе, очевидно, исполнился надеждой на спасение, он вдруг ринулся вперед и с невероятной быстротой пустился бежать по песчаному берегу прямо ко мне, то есть в ту сторону, где было мое жилье.
Сознаюсь, я страшно перепугался, когда увидел, что он бежит ко мне, тем более что мне показалось, будто вся ватага бросилась его догонять. Итак, первая половина моего сна сбывалась наяву: преследуемый дикарь будет искать убежище в моей роще; но я не мог рассчитывать, чтобы сбылась и другая половина этого сна, то есть чтобы остальные дикари не стали преследовать свою жертву и не нашли бы ее. Тем не менее я остался на своем посту и очень ободрился, увидев, что за беглецом гонятся всего два или три человека; я окончательно успокоился, когда стало ясно, что он бежит гораздо быстрее своих преследователей, расстояние между ними все увеличивается и, если ему удастся продержаться еще полчаса, они его не поймают.
От моей крепости бежавших отделяла бухточка, о которой я неоднократно упоминал в начале моего рассказа, – та самая, куда я причаливал со своими плотами, когда перевозил вещи с нашего корабля. Я ясно видел, что беглец должен будет переплыть ее, иначе ему не уйти от погони. Действительно, он, не задумываясь, бросился в воду, в каких-нибудь тридцать взмахов переплыл бухточку, вылез на другой берег и, не сбавляя шагу, побежал дальше. Из трех его преследователей только двое бросились в воду, а третий не решился; он постоял на том берегу, поглядел вслед двум другим, потом повернулся и медленно пошел назад: он избрал себе благую часть, как увидит сейчас читатель.
Я заметил, что двум дикарям, гнавшимся за беглецом, понадобилось вдвое больше времени, чем ему, чтобы переплыть бухточку. И тут-то я всем существом моим почувствовал, что пришла пора действовать, если я хочу приобрести слугу, а может быть, товарища или помощника; само Провидение, подумал я, призывает меня спасти жизнь несчастного. Не теряя времени, я сбежал по лестницам к подножию горы, захватил оставленные мною внизу ружья, затем с такой же поспешностью взобрался опять на гору, спустился с другой ее стороны и побежал к морю наперерез бегущим дикарям. Так как я взял кратчайший путь, к тому же вниз по склону холма, то скоро оказался между беглецом и его преследователями. Услышав мои крики, беглец оглянулся и в первый момент испугался меня, кажется, еще больше, чем своих врагов. Я сделал ему знак воротиться, а сам медленно пошел навстречу преследователям. Когда передний поравнялся со мной, я неожиданно бросился на него и сшиб с ног ударом ружейного приклада. Стрелять я боялся, чтобы не привлечь внимания остальных дикарей, хотя на таком большом расстоянии они едва ли могли услышать мой выстрел или увидеть дым от него. Когда передний из бежавших упал, его товарищ остановился, видимо, испугавшись, я же быстро побежал к нему. Но когда, приблизившись, я заметил, что он держит в руках лук и стрелу и целится в меня, мне оставалось только предупредить его: я выстрелил и уложил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво (как ему казалось), остановился, но был до того напуган огнем и треском выстрела, что растерялся, не зная, идти ли ему ко мне или убегать от меня, хотя, вероятно, больше склонялся к бегству; тогда я стал опять кричать ему и делать знаки подойти ко мне, и он понял: сделал несколько шагов и остановился, потом снова сделал несколько шагов и снова остановился. Тут я заметил, что он весь дрожит, как в лихорадке: бедняга, очевидно, считал себя моим пленником, с которым я поступлю точно так же, как поступил с его врагами. Тогда я опять поманил его к себе и вообще старался ободрить его, как умел. Он подходил все ближе и ближе, через каждые десять – двенадцать шагов падая на колени в знак благодарности за спасение его жизни. Я ласково ему улыбался и продолжал манить его рукой. Наконец, подойдя совсем близко, он снова упал на колени, поцеловал землю, прижался к ней лицом, взял мою ногу и поставил ее себе на голову. Последнее, по-видимому, означало, что он клянется быть моим рабом до гроба. Я поднял его, потрепал по плечу и всячески старался показать, что ему нечего бояться меня. Но начатое мной дело еще не было доведено до конца: дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушен, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасенному мной человеку, обращая его внимание на то, что враг его жив. На это он сказал мне несколько слов на своем языке, и хоть я ровно ничего не понял, но самые звуки его речи были для меня сладостной музыкой: ведь за двадцать пять с лишком лет впервые услыхал я человеческий голос (если не считать моего собственного). Но было не время предаваться таким размышлениям: оглушенный мною дикарь оправился настолько, что уже сидел на земле, и я заметил, что мой дикарь сильно этого испугался. Желая его успокоить, я прицелился в его врага из другого ружья. Но тут мой дикарь (так я буду называть его впредь) стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевший у меня через плечо обнаженный тесак. Я дал ему его. Он тотчас же подбежал к своему врагу и одним взмахом снес ему голову. Он сделал это так ловко и проворно, что ни один немецкий палач не мог бы сравниться с ним. Такое умение владеть тесаком очень удивило меня, ибо этот дикарь в своей жизни видел, должно быть, только деревянные мечи. Впоследствии я, впрочем, узнал, что дикари выбирают для своих мечей такое крепкое и тяжелое дерево и так их оттачивают, что одним ударом могут отрубать голову и руки. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом, исполнил ряд непонятных мне телодвижений и положил подле меня тесак и голову убитого врага.
Но больше всего он был поражен тем, как я убил другого индейца на таком большом расстоянии. Он указывал на убитого и знаками просил позволения сходить взглянуть на него. Я позволил, и он сейчас же побежал туда. Он остановился над трупом в полном недоумении: поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел рану. Пуля попала прямо в грудь, и крови было немного, но, по всей вероятности, произошло внутреннее кровоизлияние, потому что смерть наступила мгновенно. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне. Тогда я повернулся и пошел, приглашая его следовать за мной и стараясь объяснить ему знаками, что оставаться опасно, так как за ним может быть новая погоня.
Дикарь ответил мне тоже знаками, что следовало бы прежде зарыть мертвецов, чтобы его враги не нашли их, если придут на это место. Я выразил свое согласие, и он сейчас же принялся за дело. В несколько минут он голыми руками выкопал в песке настолько глубокую яму, что в ней легко мог поместиться один человек; затем он перетащил в эту яму одного из убитых и завалил его землей. Так же проворно распорядился он и с другим мертвецом; словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной и повел его не в крепость мою, а совсем в другую сторону – в дальнюю часть острова, к моему новому гроту. Таким образом, я не дал своему сну сбыться в этой части: дикарь не искал убежища в моей роще.
Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой, в чем он сильно нуждался после быстрого бега. Когда он подкрепился, я знаками пригласил его лечь и уснуть, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая охапка рисовой соломы и одеяло, не раз служившие мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить: он лег и мгновенно заснул.
Это был красивый малый высокого роста, безукоризненного сложения, с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук. На вид ему можно было дать лет двадцать шесть. В его лице не было ничего дикого и свирепого, однако это было мужественное лицо, обладавшее в то же время мягким и нежным выражением европейца, особенно когда он улыбался. Волосы у него были черные, длинные и прямые, и не завивались, как овечья шерсть; лоб высокий и открытый, цвет кожи не черный, а смуглый, но не того противного желто-бурого оттенка, как у бразильских или виргинских индейцев, а скорее оливковый, очень приятный для глаз, но который не так легко описать. Лицо у него было круглое и довольно пухлое, нос небольшой, но совсем не приплюснутый. Ко всему этому у него были быстрые блестящие глаза, хорошо очерченный рот с тонкими губами и правильной формы, белые, как слоновая кость, превосходные зубы. Проспав или, вернее, продремав около получаса, он проснулся и вышел ко мне. Я в это время доил своих коз в загоне подле грота. Как только он меня увидел, он подбежал и распростерся передо мной, выражая всей своей позой самую смиренную благодарность и производя при этом множество самых странных телодвижений. Припав лицом к земле, он опять поставил себе на голову мою ногу и всеми доступными ему способами старался доказать мне свою бесконечную преданность и покорность и дать мне понять, что с этого дня он будет мне слугой на всю жизнь. Я понял многое из того, что он хотел мне сказать, и, в свою очередь, постарался объяснить ему, что я им очень доволен. Тут же я начал говорить с ним и учить отвечать мне. Прежде всего я объявил, что его имя будет «Пятница», так как в этот день недели я спас ему жизнь. Затем я научил его произносить слово «господин» и дал понять, что это мое имя; научил также произносить «да» и «нет» и растолковал значение этих слов. Я дал ему молока в глиняном кувшине, предварительно отпив сам и обмакнув в него хлеб; я дал ему также лепешку, чтобы он последовал моему примеру; он с готовностью повиновался и знаками показал мне, что угощение пришлось ему очень по вкусу.
Мы провели с ним в гроте ночь, но как только рассвело, я подал ему знак следовать за мной. Я показал ему, что хочу его одеть, чему он, по-видимому, очень обрадовался, так как был совершенно наг. Когда мы проходили мимо того места, где были зарыты убитые нами дикари, он указал мне на приметы, которыми он для памяти обозначил могилы, и стал делать мне знаки, что нам следует откопать оба трупа и съесть их. В ответ на это я постарался как можно выразительнее показать свой гнев и свое отвращение – показать, что меня тошнит при одной мысли об этом, и повелительным жестом приказал ему отойти от могил, что он и исполнил с величайшей покорностью. После этого я повел его на вершину холма посмотреть, ушли ли дикари. Вытащив подзорную трубу, я навел ее на место побережья, где они были накануне, но их и след простыл: не было видно ни одной лодки. Ясно было, что они уехали, не потрудившись поискать своих пропавших товарищей.
Но я не удовольствовался этим открытием; набравшись храбрости и сгорая от любопытства, я велел своему слуге следовать за мной, вооружив его своим тесаком и луком со стрелами, которыми, как я уже успел убедиться, он владел мастерски. Кроме того, я дал ему нести одно из моих ружей, а сам взял два других, и мы пошли к тому месту, где накануне пировали дикари: мне хотелось собрать теперь более точные сведения о них. На берегу моим глазам предстала такая страшная картина, что у меня замерло сердце и кровь застыла в жилах. В самом деле, зрелище было ужасное, по крайней мере для меня, хотя Пятница остался совершенно равнодушен к нему. Весь берег был усеян человеческими костями, земля обагрена кровью; повсюду валялись недоеденные куски жареного человеческого мяса, огрызки костей и другие остатки кровавого пиршества, которым эти изверги отпраздновали свою победу над врагом. Я насчитал три человеческих черепа, пять рук; нашел в разных местах кости от трех или четырех ног и множество частей скелета. Пятница знаками рассказал мне, что дикари привезли для пиршества четырех пленных, троих они съели, а четвертый был он сам. Насколько можно было понять из его объяснений, у этих дикарей произошло большое сражение с соседним племенем, к которому принадлежал он, Пятница. Враги Пятницы взяли много пленных и развезли в разные места, чтобы устроить пиршество так же, как сделала шайка дикарей, которая привезла своих пленных на мой остров.
Я приказал Пятнице собрать все черепа, кости и куски мяса, свалить в кучу, развести костер и сжечь. Я заметил, что моему слуге очень хотелось полакомиться человечьим мясом и что его каннибальские инстинкты очень сильны. Но я высказал такое негодование при одной мысли об этом, что он не посмел дать им волю. Всеми средствами я постарался дать понять ему, что убью его, если он ослушается меня.
Уничтожив остатки кровавого пиршества, мы вернулись в крепость, и я, не откладывая, принялся хлопотать, одевая моего слугу. Прежде всего я дал ему холщовые штаны, которые достал из найденного мной на погибшем корабле сундука бедного артиллериста; после небольшой переделки они пришлись ему как раз впору. Затем я сшил ему куртку из козьего меха, приложив все свое умение, чтобы она вышла получше (я был в то время уже довольно сносным портным), и в заключение смастерил для него шапку из заячьих шкурок, очень удобную и довольно изящную. Таким образом, мой слуга был на первое время весьма сносно одет и остался очень доволен тем, что теперь стал похож на своего господина. Правда, сначала ему было стеснительно и неловко во всей этой сбруе; особенно мешали ему штаны, да и рукава были тесны ему под мышками и натирали плечи, так что пришлось переделать их там, где они беспокоили его. Но мало-помалу он привык к своему костюму и чувствовал себя в нем хорошо.
На другой день я стал думать, где бы мне его поместить. Чтобы устроить его поудобнее и в то же время чувствовать себя спокойно, я поставил его маленькую палатку в свободном пространстве между двумя стенами моей крепости – внутренней и наружной; так как сюда выходил наружный ход из моего погреба, то я устроил в нем настоящую дверь из толстых досок в прочном наличнике и приладил ее, немного отступя в глубь прохода таким образом, что она отворялась внутрь, и на ночь запиралась на засов; лестницы я тоже убирал к себе; таким образом, Пятница никак не мог проникнуть ко мне во внутреннюю ограду, а если бы вздумал попытаться, то непременно нашумел бы и разбудил меня. Дело в том, что все пространство крепости за внутренней оградой, где стояла моя палатка, представляло крытый двор. Крыша была сделана из длинных жердей, одним концом упиравшихся в гору. Для большей прочности я укрепил эти жерди поперечными балками и густо переплел рисовой соломой, толстой, как камыш; в том же месте крыши, которое я оставил незакрытым для того, чтобы входить по лестнице, я приладил откидную дверцу, которая при малейшем напоре снаружи падала с громким стуком. Все оружие я на ночь брал к себе.
Но эти предосторожности были совершенно излишни; никто еще не имел такого любящего, такого верного и преданного слуги, какого имел я в лице моего Пятницы; ни раздражительности, ни упрямства, ни своеволия; всегда ласковый и услужливый, он был привязан ко мне, как к родному отцу. Я уверен, что, если бы понадобилось, он пожертвовал бы ради меня жизнью. Я так много раз убеждался в преданности Пятницы, что у меня исчезли всякие сомнения на его счет, и я скоро пришел к убеждению, что мне незачем ограждаться от него.
Размышляя обо всем этом, я с удивлением обнаруживал, что хотя по неисповедимому велению Вседержителя множество его творений и лишены возможности дать благое применение своим душевным способностям, однако они одарены ими в такой же мере, как и мы. Как и у нас, у них есть разум, чувство привязанности, доброта, сознание долга, признательность, верность в дружбе, способность возмущаться несправедливостью, словом, все нужное для того, чтобы творить и воспринимать добро; и когда Богу бывает угодно дать им случай для надлежащего применения этих способностей, они пользуются им с такою же, даже с большей готовностью, чем мы. При этом я иногда с большой грустью задумывался над тем, как мало пользуемся мы всем этим, – что подтверждается рядом примеров, – хотя наш ум озарен светом просвещения, а душевные силы – духом Божьим и пониманием его заповедей; почему, думал я, Богу угодно было сокрыть светоч знания от стольких миллионов людей, тогда как (если судить по этому бедному дикарю) эти люди могли пользоваться им лучше, чем делаем это мы сами?
Отсюда я иногда заходил так далеко, что дерзал обвинять Провидение за произвольность в распределении истины, познание которой дано одним, но скрыто от других, а между тем от всех в одинаковой мере требуется исполнение долга. Но эти мысли прерывались и заканчивались следующим выводом: во-первых, мы не знаем, все ли будут осуждены по одной и той же истине или закону, потому что Бог, будучи по природе своей бесконечно благ и справедлив, осудил не тех из своих созданий, кто не познал его, но тех, кто поступил против законов своей совести, как говорит Священное Писание, хотя бы сущность его и была для них сокрыта; во-вторых, все мы подобны глине в руках горшечника, а может ли сосуд спросить у своего создателя: для чего ты сотворил меня таким, каков я есть?
Но возвращаюсь к моему новому товарищу. Он мне очень нравился, и я вменил себе в обязанность научить его всему, что могло быть полезным ему, а главное – говорить и понимать, что говорю я. Он оказался очень способным учеником, всегда веселым, всегда прилежным; он так радовался, когда понимал меня, когда ему удавалось объяснить мне свою мысль, что для меня было истинным удовольствием заниматься с ним. С тех пор как он был со мной, мне жилось так легко и приятно, что, если бы только я мог считать себя в безопасности от других дикарей, я, право, без сожаления согласился бы остаться на острове до конца моей жизни.
Дня через два или три после того, как я привел Пятницу в мою крепость, мне пришло в голову, что если я хочу отучить его от ужасной привычки есть человеческое мясо, то надо отбить у него вкус к этому блюду и приучить к другой пище. И вот однажды утром, отправляясь в лес, я взял его с собой. У меня было намерение зарезать козленка из моего стада, принести его домой и сварить, но по дороге я увидел под деревом дикую козу с парой козлят. «Постой!» – сказал я Пятнице, схватив его за руку, и сделал ему знак не шевелиться, потом прицелился, выстрелил и убил одного из козлят. Бедный дикарь, который видел уже, как я убил издали его врага, но не понимал, каким образом это произошло, был страшно поражен: он задрожал, зашатался; я думал, он сейчас лишится чувств. Он не видел козленка, в которого я целился, но приподнял полу своей куртки и стал щупать, не ранен ли он. Бедняга вообразил, вероятно, что я хотел убить его, так как упал передо мной на колени, стал обнимать мои ноги и долго говорил мне что-то на своем языке. Я, конечно, не понял его, но было ясно, что он просит не убивать его.
Мне скоро удалось его убедить, что я не имею ни малейшего намерения причинить ему вред. Я взял его за руку, засмеялся и, указав на убитого козленка, велел сбегать за ним, что он и исполнил. Покуда он возился с козленком и выражал свое недоумение по поводу того, каким способом тот убит, я снова зарядил ружье. Немного погодя я увидел на дереве, на расстоянии ружейного выстрела от меня, большую птицу, которую я принял за ястреба. Желая дать Пятнице маленький наглядный урок, я подозвал его к себе, показал ему пальцем сперва на птицу, которая оказалась не ястребом, но попугаем, потом на ружье, потом на землю под тем деревом, на котором сидела птица, приглашая его смотреть, как она упадет. Вслед за тем я выстрелил, и он действительно увидел, что попугай упал. Пятница и на этот раз перепугался, несмотря на все мои объяснения; он был ошеломлен еще и потому, что он не видел, как я зарядил ружье, и, вероятно, думал, что в этом оружии сидит какая-то волшебная разрушительная сила, приносящая смерть на любом расстоянии человеку, зверю, птице, словом, всякому живому существу. Еще долгое время он не мог совладать с изумлением, в которое его поверг мой выстрел. Мне кажется, что, если бы я ему только позволил, он стал бы воздавать божеские почести мне и моему ружью. Первое время он не решался дотронуться до ружья, но зато разговаривал с ним, как с живым существом, когда находился подле него. Он признался мне потом, что просил ружье не убивать его.
Когда Пятница немного опомнился от испуга, я приказал ему принести мне убитую птицу. Он сейчас же пошел, но замешкался, отыскивая ее, потому что, как оказалось, я не убил попугая, а только ранил, и он отлетел довольно далеко от того места, где я его подстрелил. В конце концов Пятница все-таки нашел его и принес; так как я видел, что Пятница все еще не понял действия ружья, то воспользовался его отсутствием, чтобы снова зарядить ружье, в расчете, что нам попадется еще какая-нибудь дичь, но больше ничего не попадалось. Я принес козленка домой и в тот же вечер снял с него шкуру и выпотрошил его; потом, отрезав хороший кусок свежей козлятины, сварил ее в глиняном горшке, и у меня вышел отличный бульон. Я начал есть сам, затем угостил Пятницу. Ему понравилась еда, только он удивился, зачем я ем суп и мясо с солью. Он стал показывать мне знаками, что с солью невкусно. Взяв в рот щепотку соли, он принялся отплевываться и сделал вид, что его тошнит от нее, а потом выполоскал рот водой. Тогда я, в свою очередь, положил в рот кусочек мяса без соли и начал плевать, показывая, что мне противно есть без соли. Но это не произвело на Пятницу никакого впечатления; я так и не мог приучить его солить мясо или суп. Лишь долгое время спустя он начал класть соль в кушанье, да и то немного.
Накормив таким образом моего дикаря вареным мясом и супом, я решил угостить его на другой день жареным козленком. Изжарил я его особенным способом, над костром, как это делается иногда у нас в Англии. По бокам костра я воткнул в землю две жерди, укрепил между ними поперечную жердь, повесил на нее большой кусок мяса и поворачивал его до тех пор, пока он не изжарился. Пятница пришел в восторг от моей выдумки; но удовольствию его не было границ, когда он попробовал моего жаркого: самыми красноречивыми жестами он дал мне понять, как ему нравится это блюдо, и наконец объявил, что никогда больше не станет есть человеческого мяса, чему я, конечно, весьма обрадовался.
На следующий день я засадил его за работу: заставил молотить и веять ячмень, показав наперед, как я это делаю. Он скоро понял и стал работать очень усердно, особенно когда узнал, что это делается для приготовления из зерна хлеба: я замесил при нем тесто и испек хлеб. В скором времени Пятница был вполне способен заменить меня в этой работе.
Так как теперь я должен был прокормить два рта вместо одного, то мне необходимо было увеличить свое поле и сеять больше зерна. Я выбрал поэтому большой участок земли и принялся его огораживать. Пятница не только весьма усердно, но с видимым удовольствием помогал мне в этой работе. Я объяснил ему назначение ее, сказав, что это будет новое поле для хлеба, потому что нас теперь двое и хлеба надо вдвое больше. Его очень тронуло то, что я так забочусь о нем: он всячески старался мне растолковать, что он понимает, насколько мне прибавилось дела теперь, когда он со мной, и что лишь бы я ему дал работу и указывал, что надо делать, а уж он не побоится труда.
Это был самый счастливый год моей жизни на острове. Пятница научился довольно сносно говорить по-английски: он знал названия почти всех предметов, которые я мог спросить у него, и всех мест, куда я мог послать его. Он очень любил разговаривать, так что нашлась наконец работа для моего языка, столько лет пребывавшего в бездействии, по крайней мере что касается произнесения членораздельных звуков. Но, помимо удовольствия, которое мне доставляли наши беседы, самое присутствие этого малого было для меня постоянным источником радости – до такой степени он пришелся мне по душе. С каждым днем меня все больше и больше пленяли его честность и чистосердечие. Мало-помалу я всем сердцем привязался к нему, да и он, со своей стороны, так меня полюбил, как, я думаю, никого не любил до этого.
Как-то раз мне вздумалось разузнать, не страдает ли он тоской по родине и не хочется ли ему вернуться домой. Так как в то время он уже настолько свободно владел английским языком, что мог отвечать почти на все мои вопросы, то я спросил его, побеждало ли когда-нибудь в сражениях племя, к которому он принадлежал. Он улыбнулся и ответил: «Да, да, мы всегда биться лучше» – то есть всегда бьемся лучше других, хотел он сказать. Затем между нами произошел следующий диалог.
Господин. Так вы всегда лучше бьетесь, говоришь ты. А как же вышло тогда, что ты попался в плен, Пятница?
Пятница. А наши все-таки много-много побили.
Господин. Но если твое племя побило тех, то как же вышло, что тебя взяли?
Пятница. Их было много-много в том месте, где был я. Они схватили один, два, три и меня. Наши побили их в другом месте, где я не был; там наши схватили – один, два, три, много-много тысяч.
Господин. Отчего же ваши не пришли к вам на помощь и не освободили вас?
Пятница. Те увели один, два, три и меня и посадили в лодку, а у наших в то время не было лодки.
Господин. А скажи мне, Пятница, что делают ваши с теми людьми, которые попадутся к ним в плен? Тоже куда-нибудь увозят на лодках и съедают потом, как те, чужие?
Пятница. Да, наши тоже кушают человек, всех кушают.
Господин. А куда они их увозят?
Пятница. Разные места – куда хотят.
Господин. А сюда привозят?
Пятница. Да, да, и сюда. Разные места.
Господин. А ты здесь бывал с ними?
Пятница. Бывал. Там бывал (указывает на северо-западную оконечность острова, служившую, по-видимому, местом сборища его соплеменников).
Таким образом, оказалось, что мой слуга Пятница бывал раньше в числе дикарей, посещавших дальние берега моего острова, и принимал участие в таких же каннибальских пирах, как тот, на который он был привезен в качестве жертвы. Когда некоторое время спустя я собрался с духом сводить его на тот берег, о котором я уже упоминал, он тотчас же узнал местность и рассказал мне, что один раз, когда он приезжал на мой остров со своими, они на этом самом месте убили и съели двадцать человек мужчин, двух женщин и ребенка. Он не знал, как сказать по-английски «двадцать», и, чтобы объяснить мне, сколько человек они тогда съели, положил двадцать камешков один подле другого и просил меня сосчитать.
Я рассказываю об этих беседах с Пятницей потому, что они служат введением к дальнейшему. После описанного диалога я спросил его, далеко ли до земли от моего острова и часто ли погибают их лодки, переплывая это расстояние. Он отвечал, что путь безопасен и что ни одна лодка не погибала, потому что невдалеке от нашего острова проходит течение и по утрам ветер всегда дует в одну сторону, а к вечеру – в другую.
Сначала я думал, что течение, о котором говорил Пятница, находится в зависимости от прилива и отлива, но потом узнал, что оно составляет продолжение течения великой реки Ориноко, впадающей в море неподалеку от моего острова, который, таким образом, как я узнал впоследствии, приходится против ее устья. Полоса же земли к северо-западу от моего острова, которую я принимал за материк, оказалась большим островом Тринидадом, лежащим к северу от устья той же реки. Я засыпал Пятницу вопросами об этой земле и ее обитателях: каковы там берега, каково море, какие племена живут поблизости? Он с величайшей готовностью рассказал все, что знал сам. Спрашивал я его также, как называются различные племена, обитающие в тех местах, но большого толку не добился. Он твердил только одно: «Кариб, Кариб». Нетрудно было догадаться, что он говорит о карибах, которые, как показано на наших географических картах, обитают именно в этой части Америки, занимая всю береговую полосу от устья Ориноко до Гвианы и дальше, до острова Сен-Мартена. Пятница рассказал мне еще, что далеко «за луной», то есть в той стороне, где садится луна, или, другими словами, к западу от его родины живут такие же, как я, белые бородатые люди (тут он показал на мои длинные усы, о которых я уже упоминал выше), что эти люди убили «много-много человеков», как он выразился. Я понял, что он говорит об испанцах, прославившихся на весь мир своими жестокостями в Америке, где во многих племенах память о них передается от отца к сыну.
На мой вопрос, не знает ли он, есть ли какая-нибудь возможность переправиться к белым людям с нашего острова, он отвечал: «Да, да, это можно: надо плыть на два лодка». Я долго не понимал, что он хотел сказать своим «двумя лодками», но наконец, хотя и с великим трудом, догадался, что он имеет в виду большое судно величиной в две лодки.
Этот разговор очень утешил меня: с того дня у меня возникла надежда, что рано или поздно мне удастся вырваться из моего заточения и что мне поможет в этом мой бедный дикарь.
В течение долгой совместной жизни с Пятницей, когда он научился обращаться ко мне и понимать меня, я не упускал случая насаждать в его душе основы религии. Как-то раз я его спросил: «Кто тебя сделал?» Бедняга меня не понял: он подумал, что я спрашиваю, кто его отец. Тогда я решил попробовать иначе: я спросил его, кто сделал море и землю, по которой мы ходим, кто сделал горы и леса. Он отвечал: «Старик по имени Бенамуки, который живет высоко-высоко». Он ничего не мог сказать мне об этой важной особе, кроме того, что он очень стар, гораздо старше меня и земли, старше луны и звезд. Когда же я спросил его, почему все существующее не поклоняется этому старику, если он создал все, лицо Пятницы приняло серьезное выражение, и он простодушно ответил: «Все на свете говорит ему: „О!“» Затем я спросил его, что делается с людьми его племени, когда они умирают. Он сказал: «Все они идут к Бенамуки». – «И те, кого они съедают, – продолжал я, – тоже идут к Бенамуки?» – «Да», – отвечал он.
Так начал я учить его познавать истинного Бога. Я сказал ему, что великий Творец всего сущего живет на небесах (тут я показал рукой на небо) и правит миром тою же властью и тем же Провидением, каким он создал его, что он всемогущ, может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять. Так постепенно я открывал ему глаза. Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о наших молитвах Богу, который всегда слышит нас, хоть он и на небесах. Один раз он сказал мне: «Если ваш Бог живет выше Солнца и все-таки слышит вас, значит, он больше Бенамуки, который не так далеко от нас и все-таки слышит нас только с высоких гор, когда мы поднимаемся, чтобы разговаривать с ним». – «А ты сам ходил когда-нибудь на те горы беседовать с ним?» – спросил я. «Нет, – отвечал он, – молодые никогда не ходят, только старики, которых мы называем Увокеки (насколько я мог понять из его объяснений, их племя называет так свое духовенство или жрецов). Увокеки ходят туда и говорят там: „О!“ (на его языке это означало: молятся) – а потом приходят домой и возвещают всем, что им говорил Бенамуки». Из всего этого я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников и что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, встречается не только у католиков, но, вероятно, во всем свете, даже среди самых зверских и варварских дикарей.