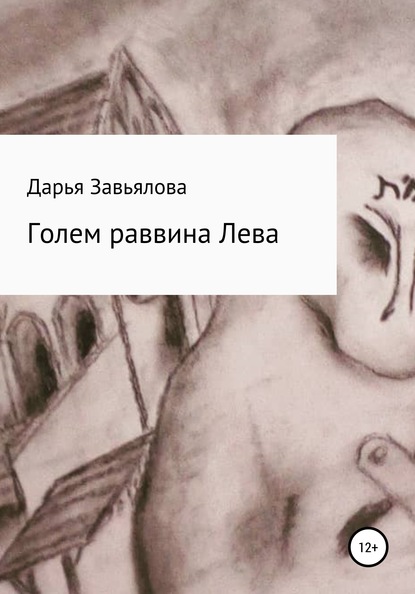По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голем раввина Лева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дарья Завьялова
Однажды мальчишка из самого темного и тесного квартала старой Праги разбил окно местного сумасшедшего. О том, что он увидел внутри и почему это наложило отпечаток на всю его жизнь, через много лет раввин Бойм расскажет своему зятю, – а заодно и читателю.
– Мастер Йоффе, куда вы? Мерка ведь почти окончена! – крикнул портной, держа в руках отрез ткани. Но дверь лавки уже с силою хлопнула, отскочила обратно и закрывалась медленно, со скрипом.
Старик, который покинул лавку, торопливо шагал по узкой пражской улочке. Горожане, шедшие навстречу, расступались, а дети визжали от радости, что видят сумасшедшего Йоффе. Чудак вызывал у них буйное веселье – особенно потому, что других развлечений в квартале не было. А уж как смешно он выглядел!.. И без того невысокого роста, сейчас он совсем сгорбился и стал похож на гнома; темно-рыжие когда-то волосы уже почти все поседели, как и редкая, длинная бородка. Весь будто грязный, засалившийся, облезший, мастер Йоффе все реже показывался на улицах, а когда появлялся, то поражал соседей затравленным взглядом и бледностью лица.
– А ну брысь! – пробурчал он, когда стайка мальчишек загородила ему путь. От негодования у него затряслась мокрая нижняя губа – вместе с жиденькой бородкой. Но обидчики и не думали отступать, а один закружился вокруг старика с улюлюканьем и выкриками. Чего-чего только Йоффе не услышал о себе – и прозвища «оборванный» и «чудак» были самыми невинными.
– Бедный мастер Йоффе, – тихо и с глубоким состраданием сказал раввин Бойм своему зятю Шамесу. Они стояли у дверей Староновой синагоги, и только что прервали разговор, услышав довольные мальчишеские визги. – Дорого же он поплатился.
Бойм, еще молодой человек, был очень приятен на вид; здоровая бледность кожи, смоляная борода без проседи, высокий лоб и умные, глубоко посаженные глаза добавляли ему какого-то тихого, скромного благородства. Его искренне любили все, кому доводилось узнать его, а уж особенную приязнь вызывал он у охочих до историй горожан – раввин трепетно собирал и предания своего народа, и легенды края, который его приютил. И необыкновенные события оживали в его устах, когда в час досуга он рассказывал о них всем желающим.
– А что это за история? – полюбопытствовал Шамес. – Поведайте, рабби Бойм. Уверен, мальчишки знают ее, но я ведь, вы знаете, рос вдали от этих мест. Не откажусь послушать, если бы вы рассказали – а уж как вы умеете рассказывать… так у меня просто сердце замирает в ожидании.
– Что ж, я не против… – Бойм мягко улыбнулся. – Случилось это еще тогда, когда мой собственный тесть только попал на службу в эту синагогу. Это были времена раввина Лева – легендарные времена… хотя, знаете, никто тогда этого не понимал…
В тот год сюда стал захаживать приезжий – маленький рыжий человечек с бегающими глазками. Первое время он только смиренно посещал службы, не пытаясь свести ни с кем знакомство или даже просто заговорить; но спустя недели он освоился – и начались странности. После службы он мог подойти к кому-нибудь и начать что-то нашептывать, но человек чаще испуганно отмахивался от него и уходил. Тогда он начал делать это прямо во время молитвы, когда у прихожанина уж не было никакого шанса уйти. Его одергивали, стыдили, тогда он смиренно опускал глаза, отходил за колонну, выслеживал оттуда еще кого-то – и ужом скользил к нему. И спустя время его непонятный тогда, но упорный труд дал плоды: некоторые прихожане просто исчезали из синагоги. Родные поначалу отговаривались их нездоровьем и неотложными делами, но раввина Лева было не провести. Как-то раз после службы он взял и попросту отправился по их домам. Не везде ему открывали, хотя в некоторых домах он замечал свет; но где-то его впускали, стыдливо отворачивая лица. В тот вечер раввин узнал, что таинственный приезжий смущает других прихожан своими речами относительно и синагоги, и веры, и зовет собираться у него дома – что некоторые из них уже и делали.
К чести его стоит сказать, что он не только не рассердился, но и испытал прилив горячей любви и стыда за то, что его слова оставляли столько вопросов – а он не чувствовал. И каждому – каждому, друг мой – из тех, чей ум был смущен незнакомцем, предлагающим жизнь с чужою верой, он охотно ответил на все вопросы. Он потратил несколько недель, чтобы вернуть заблудших было прихожан, – даже, говорят, собирал их отдельно от других для особой беседы, не предназначенной для чужих ушей. Усилия его увенчались успехом – почти все смутившиеся речами приезжего (а вы уже, конечно, догадались, что это был молодой мастер Йоффе) вернулись в синагогу, горячо сожалея о минутной слабости.
А потом начались ужасные события, которые по большей части покрывает темная пелена тайны – однако же нам доподлинно известно, что они имели место.
Непроглядным ноябрьским вечером, когда уже окончилась служба, в синагогу проник мастер Йоффе. Никто не знает, о чем он говорил с раввином Левом, – мой тесть слышал только обрывки слов да злой, возбужденный тон пришедшего – но последний выбежал оттуда, будто ошпаренный, выкрикивая угрозы увести с собою всех, всех, начиная с малых детей… Этого уж нельзя было терпеть, и раввин решился на необычайно смелый шаг.
Всю ночь, говорят, он не спал, а на чердаке синагоги горел свет – в крохотное окошко было видно, как трепещет внутри слепое пламя нескольких свечей. Было тихо-тихо, и мой тесть, изнывая от любопытства, свойственного молодости, решился заглянуть туда – но сделать это тайно он, конечно, себе не позволил. «Рабби…» – только вымолвил он, взойдя на чердак и остановившись, как пораженный громом. Посередине помещения, прямо перед раввином Левом, стоял кто-то – широкоплечий, на голову его выше, с начертанным на лбу словом «истина»… Вы улыбаетесь, но знайте – это был действительно голем, тот самый, глиняный прах которого покоится сейчас над нашими головами, там, на том чердаке!
– Что же голем сделал… с этим Йоффе? – вдруг перестав улыбаться, со странным почтением и почти страхом спросил Арье Шамес. Он поежился от первой вечерней прохлады и поднял лицо к окошку – тому самому, о котором только что говорил Бойм; последние закатные лучи как раз зажгли тусклое стекло в нем, и Шамесу показалось, что внутри горят те самые свечи, в неверном пламени которых голем восстал из праха. Стена Староновой синагоги с этим необыкновенным окном вздымалась на фоне бледного вечернего неба и казалась выше, чем есть.
– Мой тесть, конечно, знал предание о том, что когда-то на помощь его народу придет голем – но он и не думал, что тот так ужасен на вид: голем походил на грозного убийцу, и это никак не вязалось с нашим добрым Левом. Но раввин успокоил его: «Не бойтесь… этот Йоффе останется жив и здоров, и уверяю вас – он проживет дольше многих, дабы служить живым уроком тем, кто попробует повторить его дела. Голем – не только наш помощник, он и защитник нашей веры, а она сейчас в этом нуждается». «Что же он будет делать?», – спросил мой тесть, в страхе глядя на каменного истукана. Раввин тоже посмотрел на него – но со спокойной уверенностью. «Я не буду брать на себя это решение. Он лучше знает, что следует сделать с этим человеком».
На другой день Йоффе не видели ни в синагоге, ни в городе вообще – а через неделю кто-то выяснил, что тот лежит у себя в комнате, почти не вставая с постели. Доктор Бржихачек посетил его сам, без вызова, и покинул дом, не взяв денег; зеваки окружили его с расспросами, но он только пожал плечами: «Мне неизвестна эта болезнь».
Йоффе скоро выгнал жену и даже был вынужден прикрыть лавку; еду ему приносила дальняя родственница, безобразная старуха – ее присутствие он будто бы по непонятной причине терпел. Мальчишки, что забирались на крышу соседнего дома и подбирались к окну этажа, где была спальня мастера, говорили, что он часами лежит лицом к стене с пугающей неподвижностью, а иногда вдруг вскакивает и мечется по комнате, как безумный…
Однажды кто-то из мальчишек забавы ради разбил камнем оконце, через которое он с товарищами подглядывал за чудаком (самого его в комнате в эту минуту не было). Стекло давно засидели мухи, и солнечный свет, проходящий через него, из медово-радостного становился мутным, сероватым, безнадежным; теперь же лучи хлынули в комнату – и прямо залили стену, в которую обычно утыкался взглядом затворник.
– Смотрите, как красиво, – зачарованно прошептал сорванец, когда прошел первый испуг, что застанул и накажут. Мальчишки увидели, как закатный луч заиграл на гравюрах, висевших на стене; потревоженная пыль повисла в этом луче, засверкала, зашевелилась, сделала свет будто бы объемным. А комната, вдохнув свежего воздуха, стала не такой мрачной и пугающей.
И в этот самый момент, когда даже мальчишки, эти непробиваемые, циничные, беспокойные мальчишки, замерли в непонятном им самим восхищении, открылась дверь комнаты, и вошел мастер Йоффе – со скорбной физиономией и рукой, прижатой к груди: в последнее время у него болело сердце. Камень посреди осколков грязного стекла бросился ему в глаза.
– У! Негодяи! – закричал он, кинув взгляд в окно. – Всех, всех запомнил, и тебя, сын прачки, и тебя, сын башмачника, и тебя… и тебя!
Мальчишки бросились врассыпную по крыше, хотя знали, что Йоффе ни за что не полезет в разбитое окно и не кинется в погоню. Со смехом съехав по обвалившейся черепице вниз, они уселись на мостовой около синагоги.
– Знаете, что мне кажется самым странным? – спросил тот самый, что разбил окно. – Что он заметил этот маленький серый камушек, но не заметил такой огромный и яркий луч на стене!
Тут Шамес осмелился перебить раввина Бойма:
– А скажите, рабби, откуда вы так хорошо знаете историю с мальчишками? Да еще и то, о чем они говорили?
Бойм засмеялся и погладил бороду.
– Я не выдумываю, дорогой мой зять, могу вас уверить! Просто одним из этих хулиганов был… мой товарищ, – и хитро улыбнулся, давая понять, что речь совсем не про товарища, и он, в общем-то, не очень скрывает собственное участие в этой детской проделке. Арье Шамес тоже засмеялся и подумал – а ведь, наверное, именно Бойм был мальчишкой, который отпустил остроумное замечание про маленький серый камушек.
А тем временем раввин продолжал рассказ.
Изредка Йоффе видели и на улицах. Он больше не проповедовал, не торговался, не продавал и не покупал – разве только самое необходимое для жизни. Знавшие его были поражены произошедшей переменой, особенно в отношении одежды: совсем недавно он одевался не просто хорошо, но даже и фатовато, а с недавних пор начал рядиться чуть не в обноски грязно-серого цвета. Немного погодя он перестал следить и за чистотой, и даже старуха, говорят, ругалась с ним из-за вони, стоявшей теперь в его комнате.
Тесть мой был поражен. И еще больше он поразился, узнав от раввина Лева через несколько недель, что мастер Йоффе прощен, а голем давно вернулся к праху – дожидаться своего часа.
– Но я вижу, таинственная болезнь не покинула мастера Йоффе и поныне! – удивился Шамес.
– Все верно, дорогой мой Арье… проклятие голема отпустило мастера Йоффе сразу же, как только на то дал разрешение раввин Лев. Но догадались ли вы, что это было за проклятие, что за таинственная болезнь?
– Признаться, нет.
– Голем нужен обычно для черновой работы. Он не владеет особенными магическими умениями и не может изменять ничего в окружающем нас мире, но человеческая душа прозрачна для него, потому что его собственная душа – это истина… ведь вы помните надпись на лбу истукана?.. И он имеет власть над этой душой – достаточную, чтобы лишить ее какой-нибудь части. Мастера Йоффе он лишил возможности видеть красоту.
– Всего-то?..
– Нет, не «всего-то». Вы не представляете себе, каким тусклым и пугающим кажется мир, в котором больше не видишь красоты. В нем больше нет золота солнечного света – только надоедливый утренний луч, который будит вас душным прикосновением; нет птичьих песен и детских голосов – только высокие назойливые звуки, мешающие заниматься делами; нет прекрасных девушек, вкусных вин, приятных запахов… Проклятие голема давно не действует, но навлекший его на себя уже однажды увидел мир будто за серой пеленой – и, больше не в силах отвернуться от нее, погружает туда сам себя все глубже и глубже…
Оба посмотрели в конец улочки, где уже давно скрылся бедный старик Йоффе, который много лет назад раз и навсегда завязал себе глаза. А потом Арье Шамес снова украдкой поднял взгляд на чердачное окошко Староновой синагоги – и ему показалось, что внутри теплится одинокая свеча для голема.
Для подготовки обложки издания использована художественная работа автора.