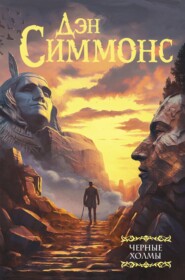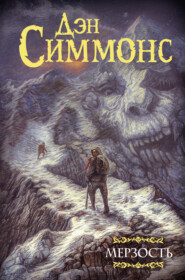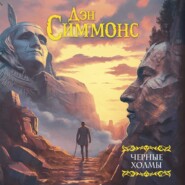По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Олимп
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Утомишься тут, – поддакнул европеец, надеясь, что не слишком открыто выказал по радиолинии собственную усталость от всей этой прустятины.
– Однако это еще цветочки, – безжалостно гнул свое Орфу, невзирая на прозрачный намек. – В горести рассказчик – тезка автора, как тебе уже известно, – заходит гораздо дальше… Постой, ты ведь читал, Манмут? Правда? В прошлом году ты убеждал меня, что все прочел.
– Ну… так, ознакомился, – признался маленький моравек.
Даже тяжкий вздох ионийца граничил с ультразвуковым колебанием.
– Хорошо, как я уже говорил, мало того что бедняге приходится взглянуть в лицо всем Альбертинам, прежде чем навеки отпустить из сердца ту единственную, вдобавок он должен сразиться с легионом Марселей, каждый из которых по-своему воспринимал разнообразные лики любимой: желал ее превыше всех благ мира, сходил с ума от ревности, что болезненно искажало его суждения…
– Ладно, а суть в чем? – нетерпеливо встрял европеец, интересовавшийся в течение полутора стандартных веков исключительно сонетами Шекспира.
– Да попросту в ошеломительной сложности человеческого сознания.
Орфу развернул свой панцирь на сто восемьдесят градусов, включил реактивные сопла, и давние приятели полетели в обратный путь – навстречу посудине, мостику, кратеру Стикни, навстречу призрачной, но притягательной безопасности. Пока они вращались, Манмут чуть не свернул шею, разглядывая красную планету над головой. Ему вдруг показалось – и весьма убедительно, – будто Марс немного приблизился. Фобос продолжал движение по орбите, так что Олимп и вулканы Фарсиды уже почти скрылись из виду.
– Ты когда-нибудь задумывался, чем отличается наша печаль от… скажем… грусти Хокенберри? Или Ахилла? – спросил иониец.
– Ну, не то чтобы задумывался… – откликнулся товарищ. – Наш схолиаст одинаково тоскует как из-за утраченной памяти о прежней жизни, так и из-за смерти своей жены, друзей, студентов и так далее. Этих людей разве поймешь. Впрочем, и наш профессор – всего-навсего восстановленный кем-то человек, воссозданный на основе ДНК, РНК, собственных книг и неизвестно каких еще гадательных программ. Что же до быстроногого – если он захандрит, то пойдет и прикончит кого-нибудь. А лучше целую свору кого-нибудь.
– Жаль, не довелось полюбоваться на его сражение с богами, – промолвил краб. – Судя по твоим рассказам, резня была еще та.
– Точно, – подтвердил европеец. – Я даже перекрыл случайный доступ к этим воспоминаниям. Они чересчур неприятны.
– Это напомнило мне еще одну любопытную особенность Марселя, – произнес Орфу, вводя соединяющие крючья в толстую шпионскую обшивку: приятели как раз опустились на верхушку космической посудины. – Мы обращаемся к неорганической памяти, как только информация, сохраненная в нейронах, вызывает сомнения. Людям же остается полагаться на сложную, запутанную массу химически управляемых неврологических архивов, субъективных и окрашенных излишними эмоциями. Как они вообще могут доверять своим воспоминаниям?
– Понятия не имею, – покачал головой Манмут. – Но если Хокенберри полетит, у нас появится возможность уяснить, как работает человеческий разум.
– Знаешь, это ведь не то же самое, что сесть втроем и задушевно потолковать, – предостерег иониец. – Сначала – резкое повышение гравитации, потом еще более трудное снижение, и к тому же на корабле соберется куча народа: самое меньшее дюжина представителей Пяти Лун и сотня бравых воинов-роквеков.
– Ого, так мы готовы к любым неожиданностям?
– Вот уж сомневаюсь, – пророкотал Орфу. – Оружия на борту хватит испепелить Землю до головешек, это правда. Но только до сих пор наши планы с горем пополам поспевали за меняющейся действительностью.
На европейца навалилась знакомая тоска: нечто похожее было во время полета на Марс, когда капитан «Смуглой леди» проведал о секретном оружии, спрятанном на корабле.
– Ты иногда скорбишь о гибели Короса III и Ри По так же, как твой Марсель грустил по усопшей? – спросил он товарища.
Антенна чувствительного радара чуть наклонилась к маленькому моравеку, словно пытаясь прочесть выражение его лица. Однако Манмут человеком не являлся и, разумеется, никакого выражения не имел и в помине.
– Не совсем, – ответил гигантский краб. – До миссии мы даже не были знакомы, да и летели в разных отделениях. Пока Зевс не… добрался до нас. По большей части я слышал лишь голоса, звучавшие по общей линии. Хотя время от времени я залезаю в банки памяти, чтобы взглянуть на их изображения. Из уважения к покойным, полагаю.
– Ага, – согласился Манмут; он и сам частенько так делал.
– Знаешь, что сказал Пруст о разговорах?
Любитель Шекспира удержался от очередного вздоха.
– Ну и что же?
– Он написал: «Когда мы с кем-нибудь беседуем… это уже не мы говорим… мы подгоняем себя под чужой образец, а не под свой собственный, разнящийся от всех прочих»[4 - М. Пруст. «Под сенью девушек в цвету».].
– Значит, пока мы с тобой беседуем, – Манмут перешел на персональную частоту, – в действительности я подгоняю себя под шеститонного, безглазого и многоногого краба с помятым панцирем?
– Мечтать не вредно, – пророкотал Орфу Ионийский. – «И все ж должно стремленье превышать возможности – не то к чему нам небо?»[5 - Р. Браунинг. «Андреа дель Сарто». Перевод М. Донского.]
9
Пентесилея ворвалась в Илион через час после рассвета. За нею, держась на расстоянии двух лошадиных крупов, несся отборный отряд из сестер по оружию. Невзирая на раннюю пору и стылый ветер, тысячи горожан высыпали на стены и на обочины дороги, ведущей от Скейских ворот ко временному дворцу Приама, посмотреть на царицу амазонок. И все ликовали так, словно та привела на подмогу многотысячную армию, а не дюжину своих подружек. Люди в толпе махали платками, бряцали копьями о кожаные щиты, плакали, кричали «ура» и бросали цветы под копыта коней.
Пентесилея принимала поклонение как должное.
Деифоб, сын Приама, брат Гектора и почившего Париса, известный целому свету в качестве будущего супруга Елены, встречал амазонок у стен Парисова дворца, где в настоящее время пребывал Приам. Видный мужчина крепкого телосложения, в сияющих доспехах и алом плаще, в золотом шлеме с пышным хвостом, он неподвижно стоял, скрестив на груди руки. Потом, салютуя гостье, воздел одну ладонь.
За его спиной строго навытяжку замерли пятнадцать человек из личной царской охраны.
– Добро пожаловать, Пентесилея, дочь Ареса и царица амазонок! – провозгласил Деифоб. – Приветствуем тебя и двенадцать твоих воительниц. От имени всего Илиона примите благодарность и глубокое почтение за то, что явились помочь нам в битве с богами Олимпа. Пройдите в чертоги, омойте прекрасные тела, примите от нас дары и познайте истинную глубину признательности и гостеприимства троянцев. Доблестный Гектор непременно приветствовал бы вас лично; к сожалению, он лишь недавно забылся сном, ибо всю ночь провел у погребального костра погибшего брата.
Пентесилея легко соскочила с огромного боевого коня (двигалась она, невзирая на тяжесть доспехов и блистающего шлема, с подкупающей грацией) и крепко, по-дружески, обеими руками пожала собрату-воину предплечье.
– Благодарю тебя, отпрыск Приама, стяжавший славу в тысячах поединков. Я и мои спутницы от души соболезнуем вашему горю, страданиям вашего отца и всего народа священной Трои, утратившей Париса, весть о кончине которого долетела до нас два дня назад, и принимаем ваше великодушное приглашение. Но прежде чем ступить на порог дворца, где с недавних пор восседает на престоле Приам, скажу, что вовсе не помышляю сражаться с вами против бессмертных. Мы прибыли, чтобы раз и навсегда завершить эту безумную богоборческую битву.
Деифоб, чьи глаза и в обычное время отличались нездоровой округлостью, буквально выпучился на гостью.
– И как же ты намерена исполнить задуманное, царица Пентесилея?
– Об этом я и собираюсь потолковать, а потом сделать. Веди же меня, благородный друг, нам с твоим отцом нужно кое-что обсудить.
Как объяснил брат Гектора новоприбывшим, царственный Приам переселился в крыло более скромного дворца Париса лишь потому, что восемь месяцев назад, в первый же день войны, боги сровняли с землей его собственный, похоронив под обломками супругу царя и повелительницу города Гекубу.
– Амазонки разделяют с вами и это страшное горе, – промолвила Пентесилея. – Плач о смерти великой царицы достиг даже наших далеких, покрытых зелеными холмами островов.
В главной зале Деифоб замялся и нервно прокашлялся.
– Кстати о далеких островах. Скажи, любимица Ареса, как случилось, что вы пережили ярость богов? Город полон крылатых слухов, будто бы Агамемнон, отплывший в этом месяце на родину, не встретил на греческих островах ни единой души. Даже храбрые защитники Илиона содрогнулись при мысли о том, что олимпийцы истребили всех людей на земле, кроме нас и аргивян. Как же вышло, что ты и твой род уцелели?
– Мы вовсе не уцелели, – бесстрастно проронила гостья. – Боюсь, края амазонок так же пусты, как и земли, которые мы проезжали по дороге сюда. Богиня Афина сохранила только нас, и то ради великого поручения. Мы должны передать нечто очень важное от ее имени жителям Трои.
– Умоляю, поведай ее слова, – произнес Деифоб.
Пентесилея покачала головой.
– Послание предназначено для ушей Приама.
Тут как по заказу запели трубы, занавес раздался, и в залу, опираясь на руку охранника, медленно вошел царь.
В последний раз амазонка встречала его, когда с полусотней отважных спутниц прорвалась сквозь ахейскую армию в город, чтобы ободрить троянцев и предложить себя в качестве боевых союзников. Приам отвечал, что в помощи пока нет нужды, но все же осыпал воительниц золотом и прочими дарами. С тех пор минуло меньше года. Но сегодня, увидев Отца Илиона, Пентесилея лишилась дара речи.
Казалось, почтенный муж состарился лет на двадцать. Прежняя бурлящая сила оставила его. Всегда прямая спина согнулась под невидимым бременем. Добрую четверть века эти щеки пылали огнем от возбуждения и вина; ничто не менялось с того далекого дня, когда маленькие девочки – Пентесилея и ее сестра Ипполита – подглядывали через щель в занавесках тронного зала за пиром, устроенным их матерью в честь троянских гостей. И вот эти самые щеки запали, как будто их обладатель разом утратил все зубы. Всклокоченные борода и волосы являли взорам не благородную проседь, но печальную, мертвенную белизну. Слезящиеся глаза рассеянно смотрели в пустоту.
– Однако это еще цветочки, – безжалостно гнул свое Орфу, невзирая на прозрачный намек. – В горести рассказчик – тезка автора, как тебе уже известно, – заходит гораздо дальше… Постой, ты ведь читал, Манмут? Правда? В прошлом году ты убеждал меня, что все прочел.
– Ну… так, ознакомился, – признался маленький моравек.
Даже тяжкий вздох ионийца граничил с ультразвуковым колебанием.
– Хорошо, как я уже говорил, мало того что бедняге приходится взглянуть в лицо всем Альбертинам, прежде чем навеки отпустить из сердца ту единственную, вдобавок он должен сразиться с легионом Марселей, каждый из которых по-своему воспринимал разнообразные лики любимой: желал ее превыше всех благ мира, сходил с ума от ревности, что болезненно искажало его суждения…
– Ладно, а суть в чем? – нетерпеливо встрял европеец, интересовавшийся в течение полутора стандартных веков исключительно сонетами Шекспира.
– Да попросту в ошеломительной сложности человеческого сознания.
Орфу развернул свой панцирь на сто восемьдесят градусов, включил реактивные сопла, и давние приятели полетели в обратный путь – навстречу посудине, мостику, кратеру Стикни, навстречу призрачной, но притягательной безопасности. Пока они вращались, Манмут чуть не свернул шею, разглядывая красную планету над головой. Ему вдруг показалось – и весьма убедительно, – будто Марс немного приблизился. Фобос продолжал движение по орбите, так что Олимп и вулканы Фарсиды уже почти скрылись из виду.
– Ты когда-нибудь задумывался, чем отличается наша печаль от… скажем… грусти Хокенберри? Или Ахилла? – спросил иониец.
– Ну, не то чтобы задумывался… – откликнулся товарищ. – Наш схолиаст одинаково тоскует как из-за утраченной памяти о прежней жизни, так и из-за смерти своей жены, друзей, студентов и так далее. Этих людей разве поймешь. Впрочем, и наш профессор – всего-навсего восстановленный кем-то человек, воссозданный на основе ДНК, РНК, собственных книг и неизвестно каких еще гадательных программ. Что же до быстроногого – если он захандрит, то пойдет и прикончит кого-нибудь. А лучше целую свору кого-нибудь.
– Жаль, не довелось полюбоваться на его сражение с богами, – промолвил краб. – Судя по твоим рассказам, резня была еще та.
– Точно, – подтвердил европеец. – Я даже перекрыл случайный доступ к этим воспоминаниям. Они чересчур неприятны.
– Это напомнило мне еще одну любопытную особенность Марселя, – произнес Орфу, вводя соединяющие крючья в толстую шпионскую обшивку: приятели как раз опустились на верхушку космической посудины. – Мы обращаемся к неорганической памяти, как только информация, сохраненная в нейронах, вызывает сомнения. Людям же остается полагаться на сложную, запутанную массу химически управляемых неврологических архивов, субъективных и окрашенных излишними эмоциями. Как они вообще могут доверять своим воспоминаниям?
– Понятия не имею, – покачал головой Манмут. – Но если Хокенберри полетит, у нас появится возможность уяснить, как работает человеческий разум.
– Знаешь, это ведь не то же самое, что сесть втроем и задушевно потолковать, – предостерег иониец. – Сначала – резкое повышение гравитации, потом еще более трудное снижение, и к тому же на корабле соберется куча народа: самое меньшее дюжина представителей Пяти Лун и сотня бравых воинов-роквеков.
– Ого, так мы готовы к любым неожиданностям?
– Вот уж сомневаюсь, – пророкотал Орфу. – Оружия на борту хватит испепелить Землю до головешек, это правда. Но только до сих пор наши планы с горем пополам поспевали за меняющейся действительностью.
На европейца навалилась знакомая тоска: нечто похожее было во время полета на Марс, когда капитан «Смуглой леди» проведал о секретном оружии, спрятанном на корабле.
– Ты иногда скорбишь о гибели Короса III и Ри По так же, как твой Марсель грустил по усопшей? – спросил он товарища.
Антенна чувствительного радара чуть наклонилась к маленькому моравеку, словно пытаясь прочесть выражение его лица. Однако Манмут человеком не являлся и, разумеется, никакого выражения не имел и в помине.
– Не совсем, – ответил гигантский краб. – До миссии мы даже не были знакомы, да и летели в разных отделениях. Пока Зевс не… добрался до нас. По большей части я слышал лишь голоса, звучавшие по общей линии. Хотя время от времени я залезаю в банки памяти, чтобы взглянуть на их изображения. Из уважения к покойным, полагаю.
– Ага, – согласился Манмут; он и сам частенько так делал.
– Знаешь, что сказал Пруст о разговорах?
Любитель Шекспира удержался от очередного вздоха.
– Ну и что же?
– Он написал: «Когда мы с кем-нибудь беседуем… это уже не мы говорим… мы подгоняем себя под чужой образец, а не под свой собственный, разнящийся от всех прочих»[4 - М. Пруст. «Под сенью девушек в цвету».].
– Значит, пока мы с тобой беседуем, – Манмут перешел на персональную частоту, – в действительности я подгоняю себя под шеститонного, безглазого и многоногого краба с помятым панцирем?
– Мечтать не вредно, – пророкотал Орфу Ионийский. – «И все ж должно стремленье превышать возможности – не то к чему нам небо?»[5 - Р. Браунинг. «Андреа дель Сарто». Перевод М. Донского.]
9
Пентесилея ворвалась в Илион через час после рассвета. За нею, держась на расстоянии двух лошадиных крупов, несся отборный отряд из сестер по оружию. Невзирая на раннюю пору и стылый ветер, тысячи горожан высыпали на стены и на обочины дороги, ведущей от Скейских ворот ко временному дворцу Приама, посмотреть на царицу амазонок. И все ликовали так, словно та привела на подмогу многотысячную армию, а не дюжину своих подружек. Люди в толпе махали платками, бряцали копьями о кожаные щиты, плакали, кричали «ура» и бросали цветы под копыта коней.
Пентесилея принимала поклонение как должное.
Деифоб, сын Приама, брат Гектора и почившего Париса, известный целому свету в качестве будущего супруга Елены, встречал амазонок у стен Парисова дворца, где в настоящее время пребывал Приам. Видный мужчина крепкого телосложения, в сияющих доспехах и алом плаще, в золотом шлеме с пышным хвостом, он неподвижно стоял, скрестив на груди руки. Потом, салютуя гостье, воздел одну ладонь.
За его спиной строго навытяжку замерли пятнадцать человек из личной царской охраны.
– Добро пожаловать, Пентесилея, дочь Ареса и царица амазонок! – провозгласил Деифоб. – Приветствуем тебя и двенадцать твоих воительниц. От имени всего Илиона примите благодарность и глубокое почтение за то, что явились помочь нам в битве с богами Олимпа. Пройдите в чертоги, омойте прекрасные тела, примите от нас дары и познайте истинную глубину признательности и гостеприимства троянцев. Доблестный Гектор непременно приветствовал бы вас лично; к сожалению, он лишь недавно забылся сном, ибо всю ночь провел у погребального костра погибшего брата.
Пентесилея легко соскочила с огромного боевого коня (двигалась она, невзирая на тяжесть доспехов и блистающего шлема, с подкупающей грацией) и крепко, по-дружески, обеими руками пожала собрату-воину предплечье.
– Благодарю тебя, отпрыск Приама, стяжавший славу в тысячах поединков. Я и мои спутницы от души соболезнуем вашему горю, страданиям вашего отца и всего народа священной Трои, утратившей Париса, весть о кончине которого долетела до нас два дня назад, и принимаем ваше великодушное приглашение. Но прежде чем ступить на порог дворца, где с недавних пор восседает на престоле Приам, скажу, что вовсе не помышляю сражаться с вами против бессмертных. Мы прибыли, чтобы раз и навсегда завершить эту безумную богоборческую битву.
Деифоб, чьи глаза и в обычное время отличались нездоровой округлостью, буквально выпучился на гостью.
– И как же ты намерена исполнить задуманное, царица Пентесилея?
– Об этом я и собираюсь потолковать, а потом сделать. Веди же меня, благородный друг, нам с твоим отцом нужно кое-что обсудить.
Как объяснил брат Гектора новоприбывшим, царственный Приам переселился в крыло более скромного дворца Париса лишь потому, что восемь месяцев назад, в первый же день войны, боги сровняли с землей его собственный, похоронив под обломками супругу царя и повелительницу города Гекубу.
– Амазонки разделяют с вами и это страшное горе, – промолвила Пентесилея. – Плач о смерти великой царицы достиг даже наших далеких, покрытых зелеными холмами островов.
В главной зале Деифоб замялся и нервно прокашлялся.
– Кстати о далеких островах. Скажи, любимица Ареса, как случилось, что вы пережили ярость богов? Город полон крылатых слухов, будто бы Агамемнон, отплывший в этом месяце на родину, не встретил на греческих островах ни единой души. Даже храбрые защитники Илиона содрогнулись при мысли о том, что олимпийцы истребили всех людей на земле, кроме нас и аргивян. Как же вышло, что ты и твой род уцелели?
– Мы вовсе не уцелели, – бесстрастно проронила гостья. – Боюсь, края амазонок так же пусты, как и земли, которые мы проезжали по дороге сюда. Богиня Афина сохранила только нас, и то ради великого поручения. Мы должны передать нечто очень важное от ее имени жителям Трои.
– Умоляю, поведай ее слова, – произнес Деифоб.
Пентесилея покачала головой.
– Послание предназначено для ушей Приама.
Тут как по заказу запели трубы, занавес раздался, и в залу, опираясь на руку охранника, медленно вошел царь.
В последний раз амазонка встречала его, когда с полусотней отважных спутниц прорвалась сквозь ахейскую армию в город, чтобы ободрить троянцев и предложить себя в качестве боевых союзников. Приам отвечал, что в помощи пока нет нужды, но все же осыпал воительниц золотом и прочими дарами. С тех пор минуло меньше года. Но сегодня, увидев Отца Илиона, Пентесилея лишилась дара речи.
Казалось, почтенный муж состарился лет на двадцать. Прежняя бурлящая сила оставила его. Всегда прямая спина согнулась под невидимым бременем. Добрую четверть века эти щеки пылали огнем от возбуждения и вина; ничто не менялось с того далекого дня, когда маленькие девочки – Пентесилея и ее сестра Ипполита – подглядывали через щель в занавесках тронного зала за пиром, устроенным их матерью в честь троянских гостей. И вот эти самые щеки запали, как будто их обладатель разом утратил все зубы. Всклокоченные борода и волосы являли взорам не благородную проседь, но печальную, мертвенную белизну. Слезящиеся глаза рассеянно смотрели в пустоту.