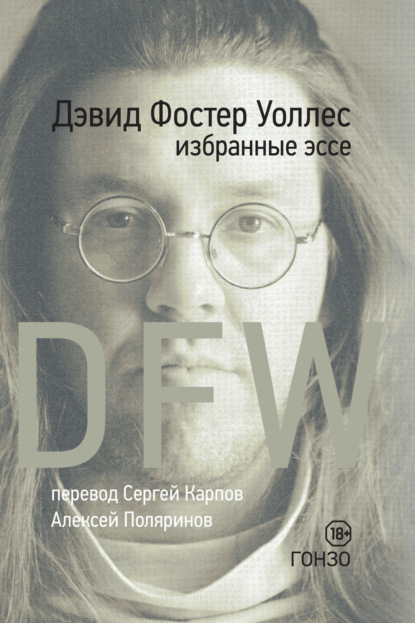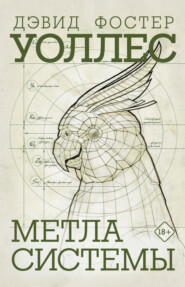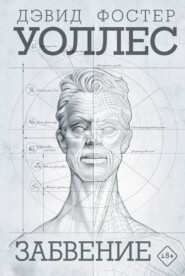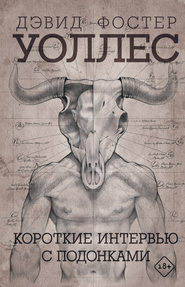По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные эссе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я скучаю по тебе. Его жена заставляет меня есть форель и анчоусов. Рыбки издавают звуки пускают пузирьки. Как ты [неразборчиво] ты хорошо? не забывай запирать двери рыбки [неразборчиво] меня они меня ненавидят.
С любовью
ДАНА
Самое трогательное в картине то, что текст записки увеличен так, что голова матери заслоняет некоторые слова – как раз эти «[неразборчивые]» части. Не знаю, есть ли у Линчей дочка по имени Дана, но, учитывая авторство плюс очевидную ситуацию и боль ребенка на картине, кажется одновременно и очень трогательным, и каким-то извращенным, что Линч выставляет это произведение на стене в фильме. В общем, теперь вы знаете текст одного из objets[58 - Произведение [искусства] (фр.).] Билла Пуллмана и можете прочувствовать те же мурашки, что и я, если всмотритесь в ранние интерьерные сцены фильма и разглядите картину. И мурашек будет еще больше в последней сцене в доме Билла Пуллмана и Патриции Аркетт, в сцене после убийства, где над софой висят те же картины, но теперь – без всякой видимой причины или объяснения – вверх ногами. Это все не просто жутко, но лично и жутко.
Интересный факт
Когда «Голова-ластик» стал на фестивалях внезапным хитом и нашел дистрибьюторов, Дэвид Линч переписал контракты съемочной группы и актеров так, чтобы все получили свою долю, какую и получают до сих пор, каждый фискальный квартал. AD, PA[59 - Assistant director, personal assistant – помощник режиссера и личный ассистент.] и т. д. на «Голове-ластике» была Кэтрин Колсон, она же в будущем – Дама с поленом из «Твин Пикса». Плюс сын Колсон, Томас, играл мальчика, который приносит голову Генри на карандашную фабрику. Верность Линча актерам и домашнему, артельному стилю работы сделала его творчество настоящим постмодернистским муравейником межфильмовых связей.
Интересный факт
Горячему режиссеру трудно избежать того, что специалисты в области голливудского психического здоровья называют «расстройством Тарантино», – устойчивого заблуждения, будто если ты хороший режиссер, то, следовательно, ты и хороший актер. В 1988-м Линч снимался с миссис Изабеллой Росселлини в «Зелли и я» Тины Рэтборн, и если вы об этом никогда не слышали, то уже сами догадались почему.
9a
Кинематографическая традиция, из которой вышел Линч, но которую почему-то никто не замечает
(С эпиграфом)
Часто говорилось, что поклонники «Кабинета доктора Калигари» обычно художники либо те, кто мыслит и запоминает графически. Это ошибочная концепция.
Пол Рота «Немецкое кино»[60 - Rotha P. The German film // The film till now: a survey of world cinema.Spring Books, 1967.]
Так как изначально Линч учился на художника (причем конкретно по направлению абстрактного экспрессионизма), любопытно, что ни один кинокритик или исследователь[61 - Даже сходящие с ума по Линчу французские знатоки, у которых в «Кайе дю синема» вышло больше двух десятков эссе на тему его творчества, – французы, видимо, почитают Линча как Бога, хотя тот факт, что они еще почитают за Бога Джерри Льюиса, добавляет здесь ложку дегтя…] ни разу не подчеркнул очевидную связь его фильмов с классической экспрессионистской кинотрадицией Вине, Коби, раннего Ланга и т. д. И я говорю о простейшем и самом очевидном определении экспрессионизма, а именно «использование объектов и персонажей не как отдельных образов, но как канал внутренних настроений и впечатлений режиссера».
Разумеется, множество критиков заметили вместе с Кейл, что в фильмах Линча «между тобой и психикой режиссера очень мало искусства… потому что в его фильмах меньше подавления, чем обычно». Они отметили преобладание в творчестве Линча фетишей и идей-фикс, отсутствие общепринятой интроспекции у персонажей (интроспекции, которая в фильме равняется «субъективности»), сексуализацию всего и вся от ампутированной конечности до пояса халата, от черепа до «затычки для сердца»[62 - См. «кардиоизнасилование» бароном Харконеном мальчика-слуги в первом акте «Дюны».], от разделяющегося медальона до разрезанного бревна. Отметили разработку фрейдистских мотивов, граничащих с пародийными клише: то, что предложение Мариэтты Сейлору «трахнуть мамочку» звучит в ванной и приводит к приступу ярости, которая потом переносится на Боба Рэя Лемона; то, что выражение лица матери перед бушующим слоном в фантазии Меррика в открывающей сцене фильма можно принять и за ужас, и за оргазм; то, что Линч структурирует лабиринтовый сюжет «Дюны» так, чтобы выделить «побег» Пола Атрейдиса с «матерью-ведьмой» после «смерти» отца Пола из-за «предательства». Отметили с особым акцентом, что почти самая знаменитая сцена Линча – в «Синем бархате», где Джеффри Бомонт подглядывает через жалюзи шкафа, как Фрэнк Бут насилует Дороти, называя себя «папочкой» и ее «мамочкой» и обещая страшную кару за то, что «ты смотришь на меня», и дышит через необъяснимую маску, неприкрыто похожую на кислородную, через которую, как мы видели, дышит умирающий папа самого Джеффри.
Это все критики отметили, и еще отметили, что, несмотря на очевидность символизма, фильмы Линча приобретают благодаря фрейдистской теме гигантскую психологическую мощь; и все же никто до сих пор не заметил очевидного: все эти очень заметные фрейдистские прогоны мощны, а не нелепы только потому, что применяются экспрессионистски – что среди прочего значит, что они применяются в старомодной, допостмодернистской манере, т. е. обнаженно, искренне, без абстракции или иронии постмодернизма. Межжалюзийный вуайеризм Джеффри Бомонта может быть извращенной пародией на старую добрую первичную сцену, но ни Бомонт («студент колледжа»), ни кто-либо другой в фильме не торопится сказать что-нибудь типа «блин, это же типа извращенная пародия на первичную сцену», ни чем-то выдать свое осознание, что происходящее – и символически, и психоаналитически – адски очевидно. Фильмы Линча – при всех их недвусмысленных архетипах, символах, интертекстуальных отсылках и проч. – отличаются интересным самонеосознанием, а это же визитная карточка экспрессионизма: никто в фильмах Линча не анализирует, не метакритикует, не герменевтизирует[63 - И это одна из причин, откуда у линчевских персонажей такая странная непрозрачность, наркотическая сверхсерьезность, напоминающая о детях с отравлением свинцом из трейлерных парков Среднего Запада. Правда в том, что Линчу персонажи нужны флегматичными до умственной отсталости; иначе они только и будут что иронически вздергивать брови и изображать пальцами кавычки из-за откровенного символизма происходящего – а это, естественно, последнее, чего он от них хочет.], включая и самого Линча. Этот набор ограничений делает его фильмы фундаментально неироничными, и я признаю, что нехватка иронии у Линча – настоящая причина, почему киноэстеты – в наш век, когда ироническое самоосознание стало единственным универсально признаваемым признаком мудрости, – думают о нем как о наивном или как о шуте. На деле Линч ни тот, ни другой – хотя он и не гений визуального кодирования или третичного символизма. Он странная гибридная помесь классического экспрессиониста и современного постмодерниста, художник, чьи «внутренние настроения и впечатления» (как и наши) – каша-малаша из нейрогенной предрасположенности, филогенетического мифа, психоаналитических силлогизмов и поп-культурной иконографии; проще говоря, Линч как бы Г. В. Пабст с зачесом Элвиса.
Чтобы быть хорошим, такое экспрессионистское искусство должно избегать двух западней. Первая – самосознание формы, когда все очень манерно и лукаво отсылается само к себе[64 - Линч сделал в эту западню полуторное сальто в «Диких сердцем» – это одна из причин, почему фильм кажется таким постмодернистки лукавым, а другая – ироническое интертекстуальное самосознание (здесь – «Волшебник страны Оз», «Из породы беглецов»), которого лучшие экспрессионистские фильмы Линча по большей части избегали.]. Вторую западню, более сложную, можно назвать «патологической идиосинкразией», или «антиэмпатическим солипсизмом», или как-то так, – когда мнения, настроения, впечатления и одержимости самого художника касаются его одного. Искусство все-таки должно быть какой-то коммуникацией, и «самовыражение» кинематографически интересно только до тех пор, пока выражаемое находит отклик у зрителя. Разница между восприятием искусства, которое удалось как коммуникация, и искусством, которое не удалось, примерно как между сексуальной близостью с человеком и подглядыванием за его мастурбацией. В категориях литературы богатый с коммуникативной точки зрения экспрессионизм воплощает Кафка, плохой и онанистский экспрессионизм – любой средний дипломный авангардный рассказ.
Именно вторая западня особенно бездонна и ужасна, и лучший фильм Линча, «Синий бархат», избегает ее так зрелищно, что первый просмотр, когда картина только вышла, стал для меня откровением. Это было настолько важное событие, что даже спустя десять лет я помню и дату – 30 марта 1986 года, вечер среды, – и то, что вся наша компания студентов MFA[65 - = магистры изящных искусств – это обычно два года обучения для выпускников вузов, которые хотят писать прозу или поэзию профессионально.] делала после того, как мы вышли из кинотеатра, а именно отправились в кофейню и обсуждали, каким откровением оказался фильм. До того момента магистерская программа оставалась разочарованием: большинство из нас хотели стать авангардными писателями, а все профессора были традиционными коммерческими реалистами школы «Нью-Йоркера», и, хотя мы презирали учителей и возмущались из-за прохладной реакции на нашу «экспериментальную» писанину, мы все-таки начали понимать, что в основном наши авангардные рассказы на самом деле солипсические, претенциозные, самосознающие, онанистские и плохие, так что к тому моменту мы в основном ненавидели себя и всех вокруг и понятия не имели, как стать лучше в экспериментах, не поддавшись презренному коммерчески-реалистическому давлению и т. д. И в этом контексте «Синий бархат» произвел на нас впечатление. Откровением для нас стали не очевидные «темы» фильма – обратная, черная сторона пригородной респектабельности, сочетание садизма, сексуальности, родительских фигур, вуайеризма, нелепого попа пятидесятых, взросления и т. д., – а сюрреализм и логика снов: вот они казались истинными, реальными. В каждом кадре что-то немного, но чудесно не так: буквально умерший стоя Человек в Желтом, необъяснимая маска Фрэнка, страшноватый индустриальный гул у квартиры Дороти, странная скульптура вагины дентаты[66 - Теперь, оглядываясь назад, я надеюсь, что ее сделала не бывшая жена Линча…] на голой стене над кроватью Джеффри, собака, пьющая из шланга парализованного отца, – эти мазки не просто выглядели эксцентрично круто, экспериментально или эстетски, но передавали какую-то истину. «Синий бархат» запечатлел какое-то кардинально важное ощущение того, как настоящее Америки воздействовало на наши нервные окончания, – то, что нельзя проанализировать или свести к системе кодов, эстетических принципов или техник из творческих мастерских.
Вот что стало для нас, студентов, откровением в «Синем бархате»: фильм помог осознать, что первоклассное экспериментаторство должно не «превозмогать» правду или «бунтовать против» нее, но почитать ее. До нас дошло – через образы, через медиум, который нас вскормил и которому мы верили, – что самые важные художественные коммуникации происходят на уровне не только не интеллектуальном, но даже и не совсем сознательном, что истинный медиум подсознания не вербальный, а образный и что неважно, реалистические эти образы, постмодернистские или сюрреалистические или какие там еще, – важнее, что они кажутся истинными, что они задевают струны в психике адресата.
Не знаю, есть ли во всем этом смысл. Но, по сути, именно поэтому режиссер Дэвид Линч для меня так важен. Я почувствовал, что 30.03.86 он показал мне что-то подлинное и важное. И у него бы не получилось, не будь он насквозь, обнаженно, неумудренно, непретенциозно собой, не транслируй он в первую очередь себя – не будь он экспрессионистом. Почему он экспрессионист – по наивности, патологии или ультрапостмодернисткой умудренности – для меня не так важно. А важно, что «Синий бархат» задел струны и остается для меня образцом современного художественного героизма.
10a
(С эпиграфом)
Все творчество Линча можно назвать эмоционально инфантильным… Линчу нравится наезжать камерой в отверстия (глазница мешка на голове или отрезанное ухо), измерять в них тьму. Там, на глубине Ид, он раскладывает веером свою колоду грязных картинок…
Кэтлин Мерфи из «Филм коммент»
Одна из причин, почему быть современным экспрессионистом – это некий героизм, заключается в том, что этим ты позволяешь людям, которым не нравится твое творчество, делать логический переход ad hominem от творчества к творцу. Немалое число критиков[67 - Например: Кэтлин Мерфи, Том Карсон, Стив Эриксон, Лоран Вашо [Kathleen Murphy, Tom Carson, Steve Erickson, Laurent Vachaud].] протестуют против фильмов Линча на том основании, что они «извращенные», или «грязные», или «инфантильные», а затем заявляют, что они вообще открывают нам различные недостатки характера Линча[68 - Этот критический тустеп – смесь «новой критики» и поп-психологии – можно назвать Неинтенциональным Заблуждением.], его проблемы от задержки в развитии до женоненавистничества и садизма. Дело не в том, что в фильмах Линча безумные люди делают друг с другом отвратительные вещи, говорят эти критики, а скорее в «моральном подходе», который проявляется в том, как камера Линча фиксирует это отвратительное поведение. В каком-то смысле недоброжелатели правы. Моральные зверства в его фильмах не призваны вызвать гнев или хотя бы неодобрение. Режиссерский подход, когда случается нечто отвратительное, как будто колеблется между клинической нейтральностью и почти похотливым вуайеризмом. Неслучайно, что в последних трех фильмах Линча всех персонажей затмевают Фрэнк Бут, Бобби Перу и Лиланд/Боб и что в нашем притяжении к этим персонажам есть почти что тропизм, – ведь камера Линча не может от них оторваться, обожает их, они – сердце его кино.
Кое-что из критики ad hominem безобидно, и режиссер сам в какой-то степени наслаждается своим образом «Мастера Безумия» / «Царя Эксцентрики» – см. для примера, как глаза Линча смотрят в разные стороны на обложке «Тайм». Однако заявление, что раз фильмы Линча совсем не осуждают отвратительность/зло/извращение и в них даже интересно на это смотреть, то фильмы сами по себе а- или внеморальные, даже злые, – это бред высшего пошиба, и не только из-за ущербной логики, но и из-за того, как это симптоматично для обедненных моральных позиций, с которых мы теперь оцениваем кино.
Я хочу заявить, что зло – это, по сути, тема фильмов Линча и что его исследования различных взаимоотношений человечества со злом хотя и специфические и экспрессионистские, тем не менее поистине чуткие и проницательные. Я хочу предположить, что реальная «моральная проблема», которую многие из нас, киноэстетов, находят в Линче, в том, что его истины морально неудобны, а нам не нравится во время киносеанса чувствовать себя неудобно. (Если только, конечно, наш дискомфорт не используется для подведения к какому-нибудь коммерческому катарсису – возмездию, кровавой бане, романтической победе непонятой героини и т. д., – т. е. если только дискомфорт не приводит к выводам, которые польстят все тем же удобным моральным убеждениям, с которыми мы пришли в кинотеатр.)
Дело в том, что Дэвид Линч владеет темой зла куда лучше, чем практически все, кто сейчас снимает кино, – лучше и к тому же по-другому. Его фильмы не антиморальны, но определенно антиформульны. Хотя его киномир и пропитан злом, прошу отметить, что ответственность за зло не перекладывается с легкостью на жадные корпорации, на коррумпированных политиков или обезличенных серийных психов. Линчу не интересно перекладывать ответственность, не интересно морально осуждать персонажей. Скорее ему интересны психические моменты, когда люди способны на зло. Ему интересна Тьма. И Тьма в фильмах Дэвида Линча всегда носит не одно лицо. Обратите внимание, например, что Фрэнк Бут в «Синем бархате» одновременно и Фрэнк Бут, и «Прилично Одетый Человек». Что в «Голове-ластике» весь постапокалиптический мир демонических концептов, чудовищных созданий и итоговых обезглавливаний – злой… но все же именно «бедный» Генри Спенсер становится детоубийцей. Что и в телесериале «Твин Пикс», и в полнометражке «Огонь, иди со мной» Боб в то же время Лиланд Палмер, что они «духовно» одно целое. Зазывала фрик-шоу из «Человека-слона» злой и эксплуатирует Меррика, но тем же занимается и старый славный доктор Тривс – и Линч аккуратно проследил, чтобы Тривс сам это признал. И если связность «Диких сердцем» пострадала из-за того, что мириады злодеев кажутся размытыми и взаимозаменяемыми, то это потому, что в основе своей они все одно и то же – т. е. они служат одной силе или духу. Сами по себе персонажи в фильмах Линча не злые – зло их надевает, как маски.
Это стоит подчеркнуть. Фильмы Линча не о чудовищах (т. е. людях со злой внутренней природой), но об одержимости, о зле как среде, возможности, силе. Это заодно объясняет постоянное применение Линчем нуарного освещения, пугающих звуковых подложек и гротескных статистов: в его киномире прямо над головой висит некая внешняя духовная антиматерия. Это также объясняет, почему злодеи Линча не просто безумные или извращенные, но восторженные, не от мира сего: они буквально одержимы. Здесь вспомните об экзальтированном крике Денниса Хоппера «Я ТРАХНУ ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ» в «Синем бархате», или о невероятной сцене в «Диких сердцем», когда Диана Лэдд размазывает по лицу адски-красную помаду, пока не становится вся дьявольски красной, и кричит на себя в зеркало, или о выражении тотального демонического возбуждения Боба в фильме «Огонь, иди со мной», когда Лора, едва не умирая от страха, видит, как он листает ее дневник. Плохие парни в фильмах Линча всегда восторженные, оргазмичные, целиком проявляются только в пиках зла, и это, в свою очередь, не потому, что зло ими движет – оно их вдохновляет[69 - Т. е. они in-spired = «ведомые, возбужденные божественным влиянием», от латинского inspirare, «вдохнуть».]: они отдались Тьме так, как никто другой. И если эти злодеи в самые страшные моменты притягательны и для камеры, и для зрителей, то не потому, что Линч «одобряет» или «романтизирует» зло, но потому, что он его диагностирует – диагностирует без комфортного панциря неодобрения, но с открытым признанием того, что зло потому такое могучее, что оно отвратительно пышет жизнью и здоровьем, от него обычно невозможно отвести глаз.
У представления Линча о зле как силе есть тревожные следствия. Люди могут быть плохими или хорошими, но сила просто есть. И сила – по крайней мере потенциально – повсюду. Таким образом, зло Линча движется и меняется[70 - С этим можно декодировать фетиш Линча на парящие/летающие сущности: ведьмы на метлах, духи, феи и Добрые Колдуньи, ангелы над головой. То же самое с его применением малиновок = Света в «Синем бархате» и сов = Тьмы в «Твин Пиксе»: главное в этих животных то, что они подвижны.], всепроникает; Тьма во всем, всегда – не «рыщет рядом», «таится в логове» или «парит над горизонтом»: зло здесь и сейчас. Но как и Свет, любовь, искупление (ведь эти явления у Линча тоже силы и духи) и т. д. По сути, в линчевской моральной схеме нет смысла говорить о Тьме или Свете отдельно друг от друга. И тут зло не просто «подразумевается» добром или Тьма – Светом, нет, но злое просто содержится в добром, закодировано в нем.
Это представление о зле можно назвать гностическим, или даосским, или неогегельянским, но еще оно линчевское, потому что главное, что делают фильмы Линча[71 - За исключением «Дюны», где плохие и хорошие практически носят шляпы соответствующих цветов, – но «Дюна» в любом случае не очень линчевский фильм.], – создают нарративное пространство, где эту идею можно проработать в мельчайших деталях до самых неудобных последствий.
И за такую попытку исследовать мир Линч расплачивается – и с критической точки зрения, и с финансовой. Потому что мы, американцы, любим, когда моральный мир в нашем искусстве понятно прописан и четко демаркирован, чтобы все было чистенько. Во многих отношениях кажется, что нам нужно от искусства, чтобы оно было морально комфортным, а интеллектуальная гимнастика, с которой мы извлекаем из произведений искусства черно-белую этику, шокирует, если внимательно присмотреться. Например, предполагаемая этическая структура, за которую Линча больше всего восхваляют, – это структура «неприглядное подбрюшье»: идея, что под зелеными газонами и школьными пикниками Любого Города США кипят темные силы и бурлят страсти[72 - Эта трактовка обусловила большинство положительных отзывов на «Синий бархат» и «Твин Пикс».]. Американские критики, кому Линч нравится, восхваляют «гениальность, с которой он проникает под цивилизованную поверхность каждодневной жизни, чтобы раскрыть там странные, ненормальные страсти», и его фильмы – за предоставление «пароля к внутреннему святилищу ужаса и желания» и за «напоминание о недремлющих злых духах под ностальгическими конструктами».
Что же удивляться, что Линча обвиняют в вуайеризме: критики вынуждены называть Линча вуайеристом, чтобы одобрить нечто вроде «Синего бархата», находясь в общепринятой моральной рамке, где Добро – наверху/снаружи, а Зло – внизу/внутри. Но дело в том, что критики гротескно ошибаются, когда считают, что эта идея «скрытого» ужаса и ненормальности «внизу» – центральная для моральной структуры его фильмов.
Трактовать, например, «Синий бархат» как фильм, центрально сосредоточенный на «парне, который находит разложение в сердце города»[73 - А большинство доброжелательных критиков так и делают – это цитата из статьи о Линче в журнале «Нью-Йорк таймс».], так же глупо, как смотреть на малиновку на подоконнике Бомонтов в конце фильма и игнорировать мучения жука в клюве птицы[74 - Не говоря уже об игнорировании того, что Френсис Бэй в роли тети Джеффри, Барбары, стоит у окна прямо рядом с Джеффри и Сэнди, корчит гримасу при виде малиновки и говорит: «Как можно есть жука?», а затем – насколько я понял, а я видел фильм раз восемь, – КЛАДЕТ ЖУКА СЕБЕ В РОТ. А если это все же не жук, то достаточно жукообразный предмет, чтобы вы поняли, что Линч что-то имел в виду, когда придумал вставить это сразу после критики диеты малиновки. (Друзья, которых я опросил, разделились во мнении, ест ли тетя Барбара жука в этой сцене или нет, так что посмотрите сами.)]. Дело в том, что «Синий бархат», по сути, фильм о взрослении, и хотя самая страшная сцена фильма – жестокое изнасилование, когда Джеффри подглядывает из шкафа Дороти, но настоящий ужас в кино окружает то, что Джеффри открывает в самом себе: например, что часть его возбуждается при виде того, что Фрэнк Бут делает с Дороти Валленс[75 - Как и – будем честны – что-то в нас, зрителях. Возбуждается, в смысле. И Линч очевидно сделал сцену изнасилования одновременно и ужасающей, и возбуждающей. Вот почему краски такие насыщенные и мизансцена такая детальная и чувственная, вот почему камера упивается изнасилованием, фетишизирует его: не потому, что Линч возбужден сценой извращенно или наивно, но потому, что он – как и мы – возбужден ею по-человечески, сложно. Подглядывание камеры одновременно объединяет и Фрэнка, и Джеффри, и режиссера, и зрителей.]. Слова Фрэнка «мамочка» и «папочка» во время изнасилования, схожесть между маской, через которую дышит Фрэнк в пиковый момент, и кислородной маской, которую мы видели на отце Джеффри в больнице, – такие вещи не просто подчеркивают аспект первичной сцены в изнасиловании. Также они очевидно предполагают, что Фрэнк Бут в каком-то глубоком смысле – «отец» Джеффри, что Тьма внутри Фрэнка закодирована и в Джеффри. Катализатор тревоги в фильме – потрясающее открытие Джеффри не темного Фрэнка, а своего собственного темного сродства с Фрэнком. Обратите внимание, например, что длинный и довольно очевидный ангстовый сон, который мучит Джеффри во втором акте фильма, происходит не после того, как он увидел насилие Фрэнка над Дороти, но после того, как именно он, Джеффри, сам согласился во время секса ударить Дороти.
В кино достаточно подобных очевидных намеков, чтобы любой хотя бы минимально внимательный зритель понял, в чем настоящая кульминация «Синего бархата» и его посыл. Кульминация наступает необычно рано[76 - Преждевременно!], где-то в конце второго акта. Это момент, когда Фрэнк оборачивается к Джеффри, сидящему на заднем сиденье машины, и говорит: «Ты такой же, как я». Момент снят с точки зрения Джеффри, так что когда Фрэнк оборачивается, то говорит он одновременно и с Джеффри, и с нами. И здесь Джеффри – который врезал Дороти и которому это понравилось – разумеется, чрезвычайно неловко, как и – если вспомнить, что мы тоже подсматривали сквозь зазоры шкафа на пиршество сексуального фашизма Фрэнка и вместе с критиками посчитали эту сцену самой завораживающей в фильме, – нам. Когда Фрэнк говорит «ты такой же, как я», реакция Джеффри – резко броситься вперед и врезать Фрэнку по носу; реакция, заметьте, брутально первобытная, больше типичная для Фрэнка, чем для Джеффри. В то же время в зале у меня, с кем Фрэнк также только что объявил родство, нет такой роскоши – выплеснуть жестокость; мне по большей части остается неловко сидеть[77 - По-моему, неслучайно, что из друзей-студентов, с которыми я впервые увидел «Синий бархат» в 1986-м, те двое, кого фильм задел сильнее всего, – те, кто сказал, что или фильм реально извращенный, или они реальные извращенцы, или сразу и они, и фильм, те двое, кто признал художественную мощь кино, но объявил, что, Господь им свидетель, они больше никогда не сядут за это празднество извращения, – оба мужчины, как неслучайно и то, что они оба выделили медленную улыбку Фрэнка, когда он щиплет сосок Дороти, смотрит сквозь Стену № 4 и говорит «ты такой же, как я», как, возможно, самый жуткий и самый неприятный момент в их истории знакомства с кино.].
А мне решительно не нравится, если мне неудобно, когда я смотрю кино. Герои мне нравятся добродетельными, жертвы – жалкими, а злодеи – злодейскими, четко заявленными и строго порицаемыми и сюжетом, и камерой. Когда я иду на фильмы, где есть всевозможные мерзости, мне нравится, когда мое фундаментальное отличие от садистов, фашистов, вуайеристов, психов и Плохих Парней недвусмысленно подтверждается и обосновывается. Мне нравится осуждать. Мне нравится беспрепятственно болеть за Восстановление Справедливости без единого гложущего подозрения (такого превалирующего и удручающего в реальной моральной жизни), что, возможно, Справедливость не пощадила бы и какие-то частички моего характера.
Я не знаю, похожи вы на меня в этом отношении или нет… хотя, судя по персонажам и моральным структурам в тех американских фильмах, которые прокатываются с успехом, должно быть довольно много американцев, точь-в-точь похожих на меня.
Также я предполагаю, что нам как аудитории очень нравится, как выволакивают на свет и выводят на чистую воду тайны и скандальные аморальности. Нам это нравится, потому что раскрытие тайн в фильмах создает у нас впечатление эпистемологической привилегии, «проникновения под цивилизованную поверхность каждодневной жизни, чтобы раскрыть странные, ненормальные страсти». Ничего удивительного: знание – сила, и нам (по крайней мере мне) нравится быть сильными. Но еще нам потому так нравится идея «тайн», «зловещих сил, рыщущих под поверхностью», что нам нравится подтверждение горячей надежды, что все плохое и неприглядное на самом деле в тайне, «скрыто» или «под поверхностью». Мы горячо на это надеемся, чтобы верить, что наши собственные отвратительные стороны и Тьма – тайна. Иначе нам неудобно. И мне как части аудитории будет чрезвычайно неудобно, если фильм построен так, что различия между поверхностью/Светом/добром и тайным/Тьмой/злом не видно, – другими словами, построен не так, чтобы Темные Тайны вытягивались ex machina на Светлую Поверхность, на очищение моим осуждением, но скорее так, что Респектабельные Поверхности и Неприглядные Подбрюшья смешаны, объединены, буквально перепутаны. И в ответ на дискомфорт я предприму одно из двух: или найду, как наказать фильм за то, что он сделал мне неудобно, или найду способ интерпретировать фильм так, чтобы избавиться от как можно большей доли дискомфорта. После исследования опубликованных работ по творчеству Линча могу вас заверить, что почти каждый уважаемый профессиональный рецензент и критик выбрал ту или иную реакцию.
Сам знаю, пока все это кажется абстрактным и обобщенным. Рассмотрим конкретный пример эволюции «Твин Пикса». Его основная структура была старой доброй формулой «убийство-при-расследовании-которого-у-всех-найдутся-скелеты-в-шкафах» прямиком из учебника нуара для чайников: поиски убившего Лору Палмер приводят к посмертным откровениям о двойной жизни (Лора Палмер = Королева Выпускного Днем & Лора Палмер = Страдающая Шлюха-Наркоманка Ночью), которые отражают моральную шизофрению всего города. Первый сезон сериала, где сюжет состоял в основном из извлечения из-под поверхности все больших и больших гадостей, оказался большим хитом. Но ко второму сезону логика структуры «тайна-и-расследование» потребовала от сериала в конце концов сосредоточиться на подробностях, кто или что несет ответственность за убийство Лоры. И чем подробнее пытался быть «Твин Пикс», тем менее популярным он становился. Особенно глубоко неудовлетворительной была финальная «разгадка» тайны – по мнению и критиков, и зрителей. И это правда. Тема Боба / Лиланда / Злой Совы осталась размытой и нечеткой[78 - Даже хуже того. Как и большинство рассказчиков, у которых тайна – прием структурный, а не тематический, Линч куда лучше углубляет и усложняет тайны, чем сводит концы с концами. И второй сезон сериала показал, что он это отлично понимал и очень нервничал. К тридцатой серии сериал выродился в шутки-прибаутки, маньеризм и болтологию, и отчасти это объясняется тем, что Линч пытался отвлечь наше внимание от факта, что на самом деле понятия не имеет, как свести концы с концами в центральном расследовании. Одна из причин, почему я вообще-то предпочитаю второй сезон первому, – завораживающий спектакль, с которым нарративная структура распадается, а автор повествования парализуется и пытается дергаться, когда сюжет достигает той точки, где должна раскрыться его слабость как автора (только представьте ужас: этот распад происходил на национальном телевидении).], но по-настоящему глубокое неудовлетворение – из-за которого зрители почувствовали себя обманутыми и преданными и из-за которого под идеей «Линч – Гениальный Автор» распалился критический костер – моральное, заявляю я. Я заявляю, что исчерпывающе раскрытые «грехи» Лоры Палмер по моральной логике американских массовых развлечений требовали, чтобы обстоятельства ее смерти оказались причинно-следственно связаны с этими грехами. У нас как у аудитории есть всякие там убеждения о посеве и жатве, и будьте добры эти убеждения подтверждать и лелеять[79 - Это бесспорно, это аксиома. Более того, в большинстве детективных, криминальных, хоррорных и саспенсных фильмов США поражает больше не возрастающее насилие, а их бескрайняя и фанатичная преданность моральным устоям прямиком из сказок: серийный убийца не зарежет добродетельную героиню-девственницу; честный коп, который не знает, что его напарник продался, пока тот не решит убрать героя, тем не менее умудрится взять реванш и убить напарника в тяжелом противостоянии; хищник, что преследовал героя / семью героя, несмотря на все свои рациональные и гениальные тактики в течение фильма в конце превратится в бешеного психа и ринется в самоубийственное лобовое нападение; и т. д., и т. д., и т. д. Правда в том, что главный компонент ощутимого саспенса в современных американских фильмах – то, как режиссер будет манипулировать элементами сюжета и персонажами, чтобы изобрести очередной способ обязательно лелеять наши моральные убеждения. Вот почему дискомфорт во время «саспенса» в кино воспринимается как приятный дискомфорт. И вот почему, когда режиссер в своем продукте не может свести с концы с концами подтверждающим устои способом, мы испытываем не смущение и даже не обиду, но гнев и чувство, что нас предали, – мы ощущаем, что нарушен негласный, но очень важный договор.]. А когда этого не случилось и все более ясно становилось, что и не случится, рейтинги «Твин Пикса» рухнули ниже плинтуса, а критики принялись оплакивать упадок когда-то «дерзкого» и «изобретательного» сериала, скатившегося в «самоотсылки» и «манерную бессвязность».
А затем еще большее оскорбление нанес «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» – полнометражный «приквел» Линча к телесериалу и его крупнейший кассовый провал со времен «Дюны». Он пожелал преобразить Лору Палмер из драматического объекта в драматический субъект. В телесериале существование Лоры в качестве мертвеца было целиком вербальным, и ее было довольно просто воспринимать как шизоидный черно-белый конструкт – «Благодетельная Днем, Развратная Ночью» и т. д. Но фильм, где мисс Шерил Ли в роли Лоры присутствует на экране более-менее постоянно, пытается представить эту многозначную систему объективированных личностей – студентка в клетчатой юбке / голая придорожная шлюха / измученная кандидатка на экзорцизм / дочь, которой домогается отец, – как единое и живое целое: все эти разные сущности, заявлял фильм, – один и тот же человек. В «Огонь, иди со мной» Лора уже не «энигма» или «пароль к внутреннему святилищу ужаса». Теперь она во плоти, во всей красе, со всеми Темными Тайнами, что в сериале были предметом многозначительных переглядываний и смачных перешептываний.
Это преображение Лоры из объекта/предлога в субъект/человека на самом деле самый морально амбициозный поступок, что пытался совершить в кино Линч, – наверное, даже невозможный, учитывая психологический контекст сериала и то, что надо быть знакомым с сериалом, чтобы хоть что-то понимать в фильме, – требующий сложных, противоречивых и, пожалуй, невероятных усилий от мисс Ли, которая, на мой взгляд, заслужила оскаровскую номинацию только за то, что пришла и рискнула.
Романист Стив Эриксон с рецензией на «Огонь, иди со мной» от 1992 года – один из немногих критиков, у кого видна хотя бы попытка разобраться, чего же пытался добиться фильм: «Мы всегда знали, что Лора – дикая девчонка, доморощенная femme fatale, которая сходила с ума по кокаину и трахалась с пьянью не столько из-за денег, сколько из чистой развращенности, но фильм наконец-то заинтересовался не возбуждением от этого разврата, а ее страданиями, изображенными Шерил Ли так стервозно и демонично, что трудно понять, было это ужасно или шедеврально. [Но особенно он и не старается, потому что читайте: ] Ее приступ смеха над телом человека, которому только что отстрелили голову, может быть проявлением и ее невинности, и проклятья [тут готовьтесь: ], и всего сразу». Всего сразу? Конечно же всего сразу. Об этом-то и говорит Линч в фильме: и невинность, и проклятье; грешат и она, и против нее. Лора Палмер в «Огонь, иди со мной» одновременно и «хорошая», и «плохая», и все же ни то ни другое: она сложная, противоречивая, реальная. А мы ненавидим в кино такую возможность, мы ненавидим это хреново «все сразу». «Все сразу» кажется ленивой проработкой персонажа, неуверенной режиссурой, потерей фокуса. По крайней мере за это мы критиковали Лору в «Огонь, иди за мной»[80 - Не говоря уже (по разным рецензиям) о «переигрывании», «невнятности» и «чрезмерности».]. Но я заявляю, что реальная причина, по которой мы невзлюбили и критиковали неопределенную «всесразовость» Лоры у Линча, в том, что она требовала от нас сопереживающей конфронтации с той же самой «всесразовостью» в нас самих и наших близких, из-за которой реальный мир моральных «Я» полон трений и неудобства, – с той «всесразовостью», от которой мы и сбега?ем, блин, отдохнуть пару часов в кино. Фильм, требующий, чтобы мы не забыли, не засудили и не отлелеяли эти свои черты и реальный мир, а признали их – и не просто признали, но и окунулись в них для эмоциональной связи с героиней, – этот фильм сделает нам неудобно, взбесит, мы почувствуем, как сказал сам главный редактор «Премьера», что нас «предали».
Я не хочу сказать, что Линч совершенно преуспел в задуманном в фильме «Огонь, иди со мной». (Не преуспел.) Я хочу сказать, что испепеляющая реакция критиков на фильм (а этот фильм – режиссер которого выиграл с предыдущей лентой Золотую пальмовую ветвь – на Каннском кинофестивале в 1992-м освистали) связана не столько с тем, что Линч не преуспел, сколько с тем, что он вообще попробовал. И я хочу сказать, что если американская машина по выставлению оценок творчеству, чудесной рабочей шестеренкой которой является журнал «Премьер», так же надругается над «Шоссе в никуда» – или еще хуже, проигнорирует, – то вам стоит держать все это в уме.
1995
Сильно преувеличены
В 1960-е годы метакритики-постструктуралисты перевернули литературную эстетику с ног на голову, отвергнув гипотезы, которые их учителя считали самоочевидными, и сильно усложнив саму идею интерпретации текстов, когда смешали теории творческого дискурса с хардкорными позициями метафизики. Не важно, фанатеете вы от Барта, Фуко, де Мана, Деррида или нет, как минимум стоит отдать им должное за эту весьма плодотворную метисацию критики и философии: сегодня критическая теория – это легитимная область изучения для молодых американских философов, которые интересуются и континентальной поэтикой, и англо-американской аналитической практикой. Х. Л. Хикс – один из таких молодых (если судить по фото, ему лет этак двенадцать) американских философов, и я уверен, что его написанная в 1992 году диссертация «Смерть автора: вскрытие» (Morte d'Author: An Autopsy) вполне могла бы выйти в серии «Искусство и философия» в издательстве университета Темпл.
Особенно злорадное веселье вызывает мысль о том, как следующая литературная теория в девяностых будет наблюдать за молодыми критиками/философами, которые начнут атаковать своих учителей-постструктуралистов с позиции критики тех самых гипотез, которые их учителя считали самоочевидными. Именно этим занимается профессор Хикс – критикует один из краеугольных камней перехода от «новой критики» и структурализма к деконструкции, а именно «смерть автора», объявленную Роланом Бартом в 1968 году. Выдающееся эссе Барта стало отправной точкой для яростных межжурнальных споров между европейскими теоретиками (за смерть автора) и американскими философами (по большей части против смерти), длившихся двадцать три года, – споров, которые Хикс так впечатляюще скомпилировал и упорядочил под обложкой своей книги, и споров, которые он – уже не так впечатляюще – предполагал разрешить, обвинив обе стороны в том, что они недостаточно изощренны в своих интерпретациях авторских намерений и измерений.
Если вы не спец по критической теории, то, чтобы понять, почему метафизическое благополучие автора – это серьезный философский вопрос, вам надо различать писателя – человека, чьи действия и решения влияют на форму текста, – и автора – сущность, чьи намерения связаны со смыслом текста. Чтобы проиллюстрировать различие, Хикс, перефразируя всегда прозрачного Александра Нехамаса, использует бородатую шутку про мартышек и печатные машинки: «Вполне возможно – хотя, очевидно, маловероятно, – что если тысячу мартышек посадить за тысячу печатных машинок, то они смогут совершенно случайно выдать энциклопедию. Если у них получится, тогда можно будет считать их ответственными за все особенности произведенного текста: абсолютно все в тексте будет создано… мартышками с печатными машинками Smith-Corona. Но… невозможно было бы объяснить смысл этих особенностей текста, потому что… мартышки и не думали вкладывать в текст какие-то смыслы, они просто печатали». Авторы – это мартышки, которые вкладывают смыслы.
Для романтиков и для критиков начала XX века интерпретация текста основывалась на фигуре автора. Вордсворт считал, что критик воспринимает текст как творческое воплощение авторского «я». А. А. Ричардс смотрел на критику с более, скажем так, клинической точки зрения: для него критика – всего лишь попытка понять «актуальное психическое состояние» создателя текста. Аксиомой для обеих школ была идея, которую многие критики находят в «Левиафане» Гоббса, представлявшего авторов как людей, которые, во-первых, берут на себя ответственность за текст и, во-вторых, «владеют» текстом, т. е. сохраняют право определять его смысл. Именно это определение «автора» Барт подвергал сомнению в 1968 году, оспаривая и первый его критерий: писатель не может в достаточной степени контролировать последствия своего текста и нести за них ответственность (когда убили Джона Леннона, никто не потащил в суд Сэлинджера), и второй: писатель – не владелец текста в гоббсовском смысле, потому что только читатели решают и, как следствие, определяют, какой именно смысл несет в себе тот или иной текст.
Настоящее постструктуралистское свидетельство о смерти здесь – это второй аргумент Барта, и его утверждение – всего лишь инволюция реакции послевоенной «новой критики» в отношении Ричардса и романтиков. «Новые критики», поначалу вполне взвешенно, стремились свергнуть автора, обрушившись на то, что они называли «интенциональным заблуждением». Иногда писатели неверно интерпретируют собственные тексты, а то и вовсе не имеют ни малейшего понятия о том, что на самом деле сказали. Порой смысл текста меняется даже в глазах самого писателя. Для «новых критиков», по сути, не важно, что автор пытается сказать; важно лишь то, что говорит текст. Это критическое «низвержение» самой идеи творческого намерения подготовило сцену для постструктуралистского шоу, которое началось спустя пару десятилетий. Деконструктивисты («деконструктивист» и «постструктуралист» – это, кстати, одно и то же: «постструктуралист» – это деконструктивист, который не хочет, чтобы его называли деконструктивистом), открыто следующие Гуссерлю, Брентано и Хайдеггеру в том же смысле, в котором «новые критики» ассимилировали Гегеля, считают споры вокруг права владения смыслами лишь отдельным сражением в большой войне западной философии из-за той идеи, что присутствие и единство онтологически предшествуют значению. По их мнению, в философии есть некое давнее и ложное предположение о том, что если существует высказывание, значит, должно существовать и универсальное, действительное присутствие, которое служит причиной высказывания. Постструктуралисты критикуют идею, которая кажется им постплатоническим предубеждением – когда присутствие ставится выше отсутствия, а речь – выше письма. Мы склонны больше верить речи, чем тексту, ввиду ее насущности: говорящий стоит прямо перед нами, и мы можем схватить его за грудки, заглянуть в глаза и понять, что конкретно он имеет в виду. Но причина, почему постструктуралисты вообще пришли на территорию литературы, в том, что для них именно текст, а не речь гораздо ближе к метафизике истинного выражения. Для Барта, Деррида и Фуко текст лучше речи, потому что он повторяем; он повторяем, потому что абстрактен; и он абстрактен, потому что он – функция не присутствия, но отсутствия: читатель отсутствует, когда писатель пишет, и писатель отсутствует, когда читатель читает.