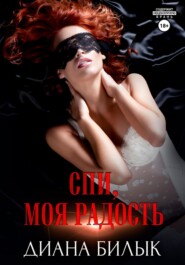По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Игольница
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лепим их с яблоками и корицей. Болтаем непринужденно.
– Село у вас по-настоящему дикое, – скажет над ухом черноокий, колючей бородой висок щекоча. Отросла, пока у меня был. Бриться ведь нечем. – В центре на меня смотрели, как на экспонат. С таким недоверием и опасением. А когда сказал, что у тебя живу, один парень странно так качал головой. То ли да, то ли нет.
– Это Васька в магазине? – засмеюсь и тесто скручу, а затем скалкой выравнивать возьмусь. Семен ладони сверху положит и повторяет мои движения. Не булочки печем, а любовью занимаемся. Щеки мои воспылают, а сердце из груди совсем вылетит и где-то в голове забьется. Не ведает он, что творит со мной. Мучитель ненаглядный.
– Да я не знаю, как зовут. Такой худой, как доска, и в шапке с ушами. Издали можно подумать, что собака ходит на двух ногах.
– Да! Васька это. Милый, но с головой не дружит немного. Один из молодых, что с деревне еще живут. В магазине часто околачивается.
Гляну, как ловко Семен к тестом управляется, и тепло в груди станет. Приятно и спокойно. Может, не просто так судьба его ко мне привела? Вдруг увидит во мне свою половинку?
– А ты почему не уехала? – раскатаем блинчики, яблоки положим сверху и лепим пироги. А у меня все горит оттого, что на его коленях сижу. Кожу стягивает, будто слезет сейчас, а он меня, как дочь, к себе прижмет.
И дума тяжелая сдавит голову. Не полюбит. Другая нужна.
– А если сошью я тебе твое счастье, уедешь?
Замолчит и лепить перестанет.
– А сможешь? – понизит голос.
Взмолюсь, чтобы отпустил, а он сильней обнимет.
– Адела, ответь…
Пересохшими губами полушепот выдохну:
– Только бы игла ожила…
– Что нужно сделать? Я могу помочь?
Пожму плечами и надорвано скажу:
– Я не знаю. У бабушки спрошу сегодня. Может, она знает.
Семен поцелует меня в висок, пересадит нежно на лавку, а сам пироги в печь поставит.
Дрова трещат-ухмыляются, что я петлю на шее затягиваю.
Знаю я! Молчите, духи проклятые! Не можете помочь, сама себя свободной сделаю. Не смогу жить, доколе рядом он. Должен уйти. Я будто в яму снежную свалилась и застыла там. Ни вперед, ни назад. Как бабочка, что между стекол крылья бьет. Высохну, скорчусь, точно старуха-безобразная, и истлею, хлопьями белыми по миру разлечусь. Зимой этой уйду, коли хоть что-то не сделаю. До весны не дотяну.
– Я тебе одежды пошила немного, – тихо вымолвлю, а Семен одними губами скажет: «Спасибо». Но переоденется сразу. И рубаху накинет, и свитер. Разрумянится да улыбнется напряженно. Что его, горемыку, мучает? Тоска по девице другой?
9
Ночью приснится мне бабушка да отругает бесполезную так, что душа свернется не один раз. Не увижу ее глаз, только голос услышу и прикосновения теплые почувствую.
– Душа моя, я же ограждала, знаки подавала. Что ж ты не послушалась? Зачем дверь отворила, Аделюшка? Слушай меня, небо мое пасмурное, иголочка не оживет без души твоей. Сильно обидела ты ее, когда в сердце стужу пустила.
– Да разве я пускала, родненькая?
– Видимо, ошиблась ты. Где? Не знаю, не ведаю.
– Что делать, бабушка?
– Дай мне времени. Я поспрашиваю у духов лесных, земных да водных. Вдруг подскажут-помогут. Но смотри, – голос бабушкин растворится в тишине, в звон колокольчиков превратившись, – не дари поцелуй…
Подорвусь на кровати, а сердце в груди, будто не мое станет. Зазвенит, затрещит окаянное, как жестянка на воротах. Уставлюсь в окошко, узоры морозные разглядывая. Вот, кто волшебник настоящий. А я, так – бракованная.
Чем прогневила иголочку, почему перестала она меня слушать?
Семен в дом зайдет. Услышу, как дрова на пол упадут. Утро стылое и холодное. Тепло на душе от ухаживаний черноокого, да понимаю цену им. Просто ждет весны он, чтобы к душеньке своей вернуться.
В комнате булочками пахнет, что на тарелке сложены по кругу, как солнце, радуются-румянятся. А у меня перед глазами руки Семена ухоженные и крепкие. Сжимают-переплетают мои пальцы, тесто месят, будто в любви признаются. Только неправда все это, другой сердце его принадлежит. Сам же говорил!
И больно так от его взгляда доброго. До того тошно, что избавиться хочу. Но далеко весна-надежда моя!
– Как ты, Ада?
А в глазах темных, как бездна, другой вопрос стоит. Приходила ли бабушка? Сможет ли любовь его склеить?
– Не пришла, – совру, чтобы больше вопросов не задавал.
Потрет гладкий подбородок. Только сейчас заметила, что побрился и волосы уложил. Светлый стал, как ребенок – чистый. Душистый и притягательный. Как такому поцелуй не подарить? Как удержаться? А коли сам полезет? Бить его, что ли?
– Малявка, я тут, – скажет и задержит дыхание, – докопался до машины. Неделю рыл сугробы. Не говорил тебе, чтобы не волновалась. Грома хочу похоронить, только не знаю где.
Ветер бросит в окно мелкий снег, а я вздрогну. Обнять нежданного хочу так сильно, что скулы сводит. За понимание и участие. Но одерну руки и сожму кулаки, аж косточки побелеют. Чужой молодец он. Чужая доля.
Горечь замучила. Болезнь отступит, и один жар другому на смену придет. Нужна оттепель, что дороги очистит. И игла живая. Не уедет ведь Семен от меня без зашитой своей беды. Будет душить присутствием, пока не испущу дух.
Оденусь с трудом. Ноги дрожат и подкашиваются, будто я срубленная береза. Но должна идти. Друг же там под толщей льда столько дней лежал. Ждал. Не могу сейчас сдаться.
Около ворот, где звенят колокольчики, я схвачусь за колышек. Заскрипит-затрещит дерево, будто живое. В пальцы колючка, как предупреждение, вонзится. Да сколько можно? Уходите, духи зимние-злые, раз не можете на ноги меня поднять! Не нужны вы мне!
Взвоет метель, отвечая мне. С ног собьет и прямо в объятия Семену бросит.
– Не дойдешь сама, – он подхватит меня на руки и по узкой колее пойдет осторожно. Гляжу на его скулы напряженные и губы очерченные, будто акварелью кто намалевал, и не могу совладать с собой. Тянет к нему, как медом намазано. Неужто приворожил кто? Да не бывает так! Я бы поняла-почувствовала, что ворожба на мне.
Услышу запах его кожи. Терпкий, как ветер в полынном поле. И в пальцах ток застучит, жилы замораживая. Помчится колючками, в сердце узлы завязывая и затягивая туго-туго. Алые, красные, кровавые. Закапают-растекутся на снегу соком калиновым. А мне дышать тяжело станет. Иголочка вонзится в сердце, и больно так, что тьма под ресницами разольется и горячей водой по щекам поползет.
– Отпусти! – закричу.
А Семен покачает головой и крепче к себе прижмет, будто нарочно.
– Здесь недалеко. Потерпи.
– Не хочу, – голос сорвется, в сип превращаясь. – Отпусти, окаянный!
– Село у вас по-настоящему дикое, – скажет над ухом черноокий, колючей бородой висок щекоча. Отросла, пока у меня был. Бриться ведь нечем. – В центре на меня смотрели, как на экспонат. С таким недоверием и опасением. А когда сказал, что у тебя живу, один парень странно так качал головой. То ли да, то ли нет.
– Это Васька в магазине? – засмеюсь и тесто скручу, а затем скалкой выравнивать возьмусь. Семен ладони сверху положит и повторяет мои движения. Не булочки печем, а любовью занимаемся. Щеки мои воспылают, а сердце из груди совсем вылетит и где-то в голове забьется. Не ведает он, что творит со мной. Мучитель ненаглядный.
– Да я не знаю, как зовут. Такой худой, как доска, и в шапке с ушами. Издали можно подумать, что собака ходит на двух ногах.
– Да! Васька это. Милый, но с головой не дружит немного. Один из молодых, что с деревне еще живут. В магазине часто околачивается.
Гляну, как ловко Семен к тестом управляется, и тепло в груди станет. Приятно и спокойно. Может, не просто так судьба его ко мне привела? Вдруг увидит во мне свою половинку?
– А ты почему не уехала? – раскатаем блинчики, яблоки положим сверху и лепим пироги. А у меня все горит оттого, что на его коленях сижу. Кожу стягивает, будто слезет сейчас, а он меня, как дочь, к себе прижмет.
И дума тяжелая сдавит голову. Не полюбит. Другая нужна.
– А если сошью я тебе твое счастье, уедешь?
Замолчит и лепить перестанет.
– А сможешь? – понизит голос.
Взмолюсь, чтобы отпустил, а он сильней обнимет.
– Адела, ответь…
Пересохшими губами полушепот выдохну:
– Только бы игла ожила…
– Что нужно сделать? Я могу помочь?
Пожму плечами и надорвано скажу:
– Я не знаю. У бабушки спрошу сегодня. Может, она знает.
Семен поцелует меня в висок, пересадит нежно на лавку, а сам пироги в печь поставит.
Дрова трещат-ухмыляются, что я петлю на шее затягиваю.
Знаю я! Молчите, духи проклятые! Не можете помочь, сама себя свободной сделаю. Не смогу жить, доколе рядом он. Должен уйти. Я будто в яму снежную свалилась и застыла там. Ни вперед, ни назад. Как бабочка, что между стекол крылья бьет. Высохну, скорчусь, точно старуха-безобразная, и истлею, хлопьями белыми по миру разлечусь. Зимой этой уйду, коли хоть что-то не сделаю. До весны не дотяну.
– Я тебе одежды пошила немного, – тихо вымолвлю, а Семен одними губами скажет: «Спасибо». Но переоденется сразу. И рубаху накинет, и свитер. Разрумянится да улыбнется напряженно. Что его, горемыку, мучает? Тоска по девице другой?
9
Ночью приснится мне бабушка да отругает бесполезную так, что душа свернется не один раз. Не увижу ее глаз, только голос услышу и прикосновения теплые почувствую.
– Душа моя, я же ограждала, знаки подавала. Что ж ты не послушалась? Зачем дверь отворила, Аделюшка? Слушай меня, небо мое пасмурное, иголочка не оживет без души твоей. Сильно обидела ты ее, когда в сердце стужу пустила.
– Да разве я пускала, родненькая?
– Видимо, ошиблась ты. Где? Не знаю, не ведаю.
– Что делать, бабушка?
– Дай мне времени. Я поспрашиваю у духов лесных, земных да водных. Вдруг подскажут-помогут. Но смотри, – голос бабушкин растворится в тишине, в звон колокольчиков превратившись, – не дари поцелуй…
Подорвусь на кровати, а сердце в груди, будто не мое станет. Зазвенит, затрещит окаянное, как жестянка на воротах. Уставлюсь в окошко, узоры морозные разглядывая. Вот, кто волшебник настоящий. А я, так – бракованная.
Чем прогневила иголочку, почему перестала она меня слушать?
Семен в дом зайдет. Услышу, как дрова на пол упадут. Утро стылое и холодное. Тепло на душе от ухаживаний черноокого, да понимаю цену им. Просто ждет весны он, чтобы к душеньке своей вернуться.
В комнате булочками пахнет, что на тарелке сложены по кругу, как солнце, радуются-румянятся. А у меня перед глазами руки Семена ухоженные и крепкие. Сжимают-переплетают мои пальцы, тесто месят, будто в любви признаются. Только неправда все это, другой сердце его принадлежит. Сам же говорил!
И больно так от его взгляда доброго. До того тошно, что избавиться хочу. Но далеко весна-надежда моя!
– Как ты, Ада?
А в глазах темных, как бездна, другой вопрос стоит. Приходила ли бабушка? Сможет ли любовь его склеить?
– Не пришла, – совру, чтобы больше вопросов не задавал.
Потрет гладкий подбородок. Только сейчас заметила, что побрился и волосы уложил. Светлый стал, как ребенок – чистый. Душистый и притягательный. Как такому поцелуй не подарить? Как удержаться? А коли сам полезет? Бить его, что ли?
– Малявка, я тут, – скажет и задержит дыхание, – докопался до машины. Неделю рыл сугробы. Не говорил тебе, чтобы не волновалась. Грома хочу похоронить, только не знаю где.
Ветер бросит в окно мелкий снег, а я вздрогну. Обнять нежданного хочу так сильно, что скулы сводит. За понимание и участие. Но одерну руки и сожму кулаки, аж косточки побелеют. Чужой молодец он. Чужая доля.
Горечь замучила. Болезнь отступит, и один жар другому на смену придет. Нужна оттепель, что дороги очистит. И игла живая. Не уедет ведь Семен от меня без зашитой своей беды. Будет душить присутствием, пока не испущу дух.
Оденусь с трудом. Ноги дрожат и подкашиваются, будто я срубленная береза. Но должна идти. Друг же там под толщей льда столько дней лежал. Ждал. Не могу сейчас сдаться.
Около ворот, где звенят колокольчики, я схвачусь за колышек. Заскрипит-затрещит дерево, будто живое. В пальцы колючка, как предупреждение, вонзится. Да сколько можно? Уходите, духи зимние-злые, раз не можете на ноги меня поднять! Не нужны вы мне!
Взвоет метель, отвечая мне. С ног собьет и прямо в объятия Семену бросит.
– Не дойдешь сама, – он подхватит меня на руки и по узкой колее пойдет осторожно. Гляжу на его скулы напряженные и губы очерченные, будто акварелью кто намалевал, и не могу совладать с собой. Тянет к нему, как медом намазано. Неужто приворожил кто? Да не бывает так! Я бы поняла-почувствовала, что ворожба на мне.
Услышу запах его кожи. Терпкий, как ветер в полынном поле. И в пальцах ток застучит, жилы замораживая. Помчится колючками, в сердце узлы завязывая и затягивая туго-туго. Алые, красные, кровавые. Закапают-растекутся на снегу соком калиновым. А мне дышать тяжело станет. Иголочка вонзится в сердце, и больно так, что тьма под ресницами разольется и горячей водой по щекам поползет.
– Отпусти! – закричу.
А Семен покачает головой и крепче к себе прижмет, будто нарочно.
– Здесь недалеко. Потерпи.
– Не хочу, – голос сорвется, в сип превращаясь. – Отпусти, окаянный!