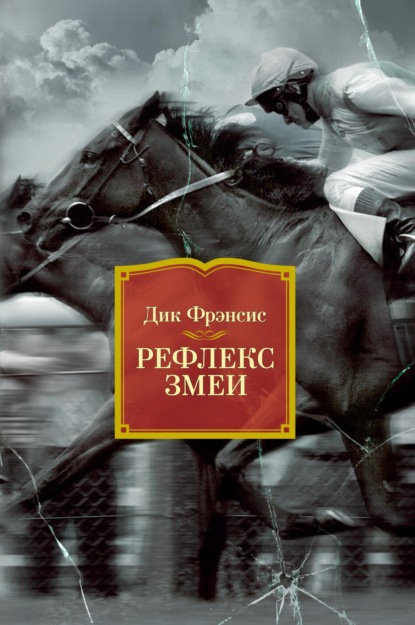По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рефлекс змеи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отчеты не особо длинные. Вы ведь можете просто прочесть их, правда?
Он и не ждал ответа. Он просто с рассеянным видом пошел к двери, показывая, что готов уйти. Я шел за ним вниз по лестнице вплоть до его машины.
– Кстати, – сказал он, неуклюже застыв на полпути к водительскому сиденью, – миссис Нор на самом деле умирает. У нее рак позвоночника. Уже с метастазами. Говорят, сделать ничего нельзя. Она проживет, может, недель шесть или чуть больше. Они не могут сказать. Потому… в смысле… времени нет, понимаете?
Я с удовольствием весь день проработал в проявочной, проявляя и печатая черно-белые снимки миссис Миллес и разгрома в ее доме. Снимки вышли четкие и резкие, так что можно было даже прочесть бумаги на полу, и я вдруг задумался: где же пролегает эта граница между явным тщеславием и просто удовольствием от хорошо сделанной работы? Возможно, тщеславием было вешать на стену серебристые березы… но если отвлечься от содержания, то печатание большого фотоснимка – техническая проблема, и все получилось как надо… да и скульптор разве прячет под мешковиной лучшие свои статуи?
Конверт, который принес Фолк, по-прежнему нераспечатанный, лежал наверху на столе, где Джереми его и оставил. Я, проголодавшись, поел немного помидоров и мюсли, убрался в проявочной, в шесть часов запер дом и пошел вверх по дороге к Гарольду Осборну.
В шесть часов по воскресеньям он ждал меня на рюмочку, и каждое воскресенье от шести до семи мы разговаривали о том, что произошло за прошлую неделю, и обсуждали планы на неделю будущую. Несмотря на свое непредсказуемое настроение, что маятником качалось от депрессии к эйфории, Гарольд был человеком методичным и терпеть не мог, когда что-нибудь мешало нашим посиделкам, которые он называл военными советами. В этот час на телефонные звонки отвечала его жена, записывая, что ему передать и кому перезвонить. Как-то раз при мне у них вышел страшный скандал, поскольку она ворвалась в комнату, чтобы сказать, что собаку сбила машина.
– Могла бы подождать двадцать минут! – взревел он. – Как я теперь могу сосредоточиться на указаниях Филипу насчет Швеппса?
– Но собака! – рыдала она.
– К черту собаку!
Он несколько минут выговаривал ей, а затем вышел на дорогу и стал рыдать над изуродованным телом своего друга. Наверное, в Гарольде было то, чего не было во мне, он был эмоционален, вспыльчив, порой его прямо-таки распирало от чувств, от гнева или любви, он был хитер и обладал утонченным вкусом. Мы были схожи лишь в одном – в нашей вере в то, что мы сможем сделать все как надо, и это молчаливое соглашение было основой мира между нами и держало нас вместе. Он мог бешено орать на меня, понимая, что я не обижусь, и поскольку я хорошо его знал, то и не обижался. Другие жокеи, тренеры и некоторые журналисты часто говорили мне с различной степенью раздражения или насмешки: «Как ты только с этим миришься?» И я всегда честно отвечал: «Легко».
В это воскресенье священный час был прерван еще до того, как успел начаться, поскольку у Гарольда был гость. Я вошел в его дом через вход в конюшни. В гостиной-офисе, полной уютного беспорядка, в одном из кресел сидел Виктор Бриггз.
– Филип! – с улыбкой приветствовал меня Гарольд. – Налей себе. Мы как раз собираемся просмотреть вчерашнюю видеозапись. Садись. Готов? Я включаю.
Виктор Бриггз кивнул мне и пожал руку. «Без перчаток», – подумал я. Холодные бледные сухие руки, в пожатии ничего агрессивного. У него были густые блестящие прямые черные волосы, слегка поднимавшиеся над бровями, образуя мысок посередине лба. Обычно их скрывала широкополая шляпа. Он был без тяжелого синего пальто, в простом темном костюме. Даже сейчас на лице его было замкнутое выражение, словно он боялся выдать свои мысли, но в целом он был явно доволен. Пусть он и не улыбался, но ощущение было такое.
Я открыл банку кока-колы и налил себе в стакан.
– Ты не будешь пить? – спросил Виктор Бриггз.
– Шампанское, – сказал Гарольд. – Он шампанское пьет, не так ли, Филип?
Гарольд был в прекрасном расположении духа. Его рыжевато-каштановые кудри беспорядочно торчали во все стороны, такие же неукротимые, как и его натура. Гарольду было пятьдесят два, а смотрелся он лет на десять моложе – дородный, крупный, живой, мускулистый, шести футов росту, лицо с сильными, но нечеткими чертами, так что оно казалось скорее круглым, чем острым.
Он включил видео и снова сел в кресло, чтобы посмотреть на неудачу Дэйлайта на сандаунских скачках. Доволен был, как будто выиграл Большой национальный приз. «Хорошо, что никто из распорядителей не присматривался, – подумал я. – Иначе вряд ли бы кто ошибся насчет того, чего это тренер радуется проигрышу своей лошади».
На пленке я на Дэйлайте спускался к старту, становился в ряд, пускался с места; комментатор говорил, что ставки на фаворита один к четырем, надо только взять все препятствия, чтобы выиграть. Чистые прыжки на первых двух препятствиях. Сильный ровный подъем мимо трибун. Дэйлайт впереди, задает скорость, но остальные пять всадников идут по пятам. Верхний поворот, прижимается к изгороди… все быстрее вниз… Приближение к третьему препятствию… все выглядит прекрасно, затем винт в воздухе и неуклюжее приземление, фигурка в красном и голубом сползает по шее лошади, затем падает ей под ноги. Стон толпы и спокойный голос комментатора: «Дэйлайт сходит на этом препятствии, теперь лидирует Мушка»…
Остальные участники скачек общей неразличимой кучей вяло дотащились до финиша. Затем еще раз прокрутили сход с дистанции Дэйлайта с замечаниями комментатора. «Вы видите, как конь пытается прибавить и сбрасывает Филипа Нора вперед через голову… голова лошади при приземлении резко опускается, не оставляя жокею шанса… Бедный Филип Нор цепляется за лошадь… безнадежно… всадник и лошадь не получили повреждений».
Гарольд встал и выключил видео.
– Артистично, – сказал он, лучезарно улыбаясь мне сверху вниз. – Я двадцать раз крутил пленку. Просто невозможно пересказать.
– Никто ничего не заподозрил, – сказал Виктор Бриггз. – Один из распорядителей сказал мне: «Как чертовски не повезло».
Где-то в груди Виктора Бриггза таился смех – не вырывающийся на поверхность, а только сотрясающий грудь. Он взял большой конверт, лежавший рядом с его стаканом джина с тоником, и протянул его мне.
– Здесь моя благодарность тебе, Филип.
– Вы очень добры, мистер Бриггз, – сухо сказал я. – Но это ничего не меняет. Я не хочу получать деньги за проигрыш… Ничего не могу с этим поделать.
Виктор Бриггз молча положил конверт. И не он тут же впал в ярость, а Гарольд.
– Филип, – прогремел он, нависая надо мной, – не будь ты таким щепетильным, черт тебя дери! В этом конверте куча денег! Виктор очень щедр. Возьми, скажи спасибо и заткнись.
– Лучше не надо.
– Да плевать мне, что тебе лучше! Когда надо было совершить преступление, ты так не манерничал! Это он от тридцати сребреников, видите ли, нос воротит! Ханжа! Меня тошнит от тебя. И ты возьмешь эти деньги, или мне придется затолкать их тебе в глотку!
– Придется.
– Что придется?
– Затолкать их мне в глотку.
Виктор Бриггз по-настоящему рассмеялся, хотя, когда я посмотрел на него, губы его были по-прежнему сжаты, как будто смех вырвался наружу без его позволения.
– И, – медленно сказал я, – я не хочу больше такого делать.
– Ты сделаешь то, что тебе скажут, – сказал Гарольд.
Виктор Бриггз решительно встал, и оба они внезапно замолкли, глядя на меня.
Мне показалось, что прошла целая вечность, затем Гарольд сказал тихим голосом, в котором было куда больше угрозы, чем в его крике:
– Ты сделаешь то, что тебе скажут, Филип.
Тут и я встал, в свою очередь. Во рту у меня пересохло, но я сумел заговорить безразлично, спокойно и без вызова, насколько это было возможно:
– Пожалуйста… не заставляйте меня повторять вчерашнее.
Глаза Виктора Бриггза сузились.
– Тебе что, лошадь чего-нибудь повредила? Судя по видео, конь по тебе прошелся.
Я покачал головой:
– Нет. Просто из-за проигрыша. Вы же знаете, мне это претит. Просто… я не хочу, чтобы вы просили меня… еще раз.
Снова молчание.
– Послушайте, – сказал я, – всему есть мера. Конечно, я придержу лошадь, если она не на сто процентов в форме и тяжелая гонка выведет ее в другой раз из строя. Конечно, я это сделаю, если в этом будет смысл. Но не так, как было вчера с Дэйлайтом. Я понимаю, что я делал такое… но вчера последний раз.
– Лучше тебе уйти прямо сейчас, Филип, – холодно сказал Гарольд. – Я поговорю с тобой утром.
Я кивнул и ушел без теплых рукопожатий, которыми приветствовали мое прибытие.
«Что они будут делать?» – думал я. Я шел по извилистой темной улочке от дома Гарольда к себе, как сотни раз по воскресеньям, и думал, не в последний ли раз. Если он захочет, он может хоть завтра посадить на своих лошадей других жокеев. Он не был обязан выпускать меня на скачки. Я считался вольнонаемным, поскольку мне платили за скачки владельцы лошадей, я не получал еженедельную плату от тренера, и такого понятия, как «незаконное увольнение», для свободных художников вроде меня не существовало.