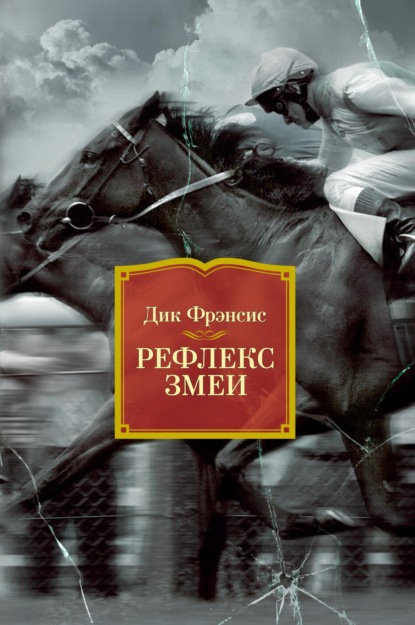По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рефлекс змеи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На первый взгляд ничего особенного.
К обратной стороне снимка был приклеен конверт, сделанный из специальной бессернистой бумаги, используемой осторожными профессионалами для долговременного хранения проявленных пленок. В конверте лежал негатив.
Это был негатив, с которого и была сделана фотография, но, если фотография была почти черной и местами темно-серой, сам негатив был чистым и четким, со множеством деталей и бликов.
Я положил снимок и негатив рядом.
Сердце у меня не стало биться чаще. Никаких подозрений, никаких предположений не возникло. Только любопытство. И поскольку у меня были и средства, и время, я снова пошел в проявочную и напечатал несколько фотографий размером пять на четыре дюйма, каждую при разной выдержке, от одной до восьми секунд.
Но даже при самой длительной выдержке фотография получилась не такой, как у Джорджа Миллеса, потому я снова начал с лучшей выдержки в шесть секунд и передержал фотографии в проявителе, пока четкие контуры не потемнели и по большей части не исчезли и не остался только серый человек на черном фоне, сидящий за столом. В этот момент я вынул фотографию из кюветы с проявителем и положил ее в закрепитель. Я получил фотографию, почти в точности такую же, как у Джорджа.
Слишком долгое выдерживание снимка в проявителе – самая распространенная ошибка. Если бы Джордж отвлекся и передержал фотографию в проявителе, он просто чертыхнулся бы и выбросил ее. Так почему же он хранил снимок? Да еще и в рамке держал. И приклеил четкий чистый негатив к обратной стороне?
Я так и не понял, пока не включил яркий свет и не рассмотрел как следует лучшую из четырех фотографий. Я просто оцепенел. Я стоял в проявочной, не веря глазам своим.
Наконец, присвистнув, я двинулся с места. Я выключил белый свет и, когда мои глаза снова привыкли к красному, сделал еще одну фотографию, увеличив ее в четыре раза, на более контрастной бумаге, чтобы получить как можно более четкий отпечаток.
Я держал в руках снимок – на нем было двое мужчин, давших в суде присягу, что никогда друг друга не видели.
Обознаться было невозможно. Человек в тени теперь сидел за столиком в уличном кафе где-то во Франции. Сам он был французом, с усиками – он как будто случайно зашел туда и сидел за столиком, на котором стояли стакан и тарелка. Кафе называлось «Серебряный кролик». За полузанавешенным окном виднелась реклама пива и лотереи, в дверях стоял официант в фартуке. В глубине за кассой перед зеркалом сидела женщина и смотрела на улицу. Все детали были очень четкими, с замечательной глубиной фокуса. Джордж Миллес, как всегда, был на высоте.
За столиком снаружи, за окном кафе, сидели двое мужчин. Оба смотрели в камеру, но головы были повернуты друг к другу. Ошибиться было невозможно – они разговаривали друг с другом. Перед каждым стоял бокал с вином, наполовину опустошенный, и бутылка. Также там стояли чашечки кофе и пепельница с положенной на край, наполовину выкуренной сигарой. Все признаки долгой беседы.
Оба они были замешаны в аферу, потрясшую мир скачек восемнадцать месяцев назад, как раскат грома. Слева на фотографии был Элджин Йаксли, владелец пяти дорогих стиплеров, тренировавшихся в Ламборне. В конце сезона скачек все пять были отосланы на местную ферму на несколько недель на выгул, а затем, в полях, все пять были застрелены из винтовки. А застрелил их Теренс О’Три, человек, который был на фотографии справа.
Довольно толковая работа полицейских (которым помогли два паренька, вышедшие погулять на рассвете, когда их родители считали, что они спокойно спят) позволила выследить и опознать О’Три и вызвать его в суд.
Все пять лошадей были хорошо застрахованы. Страховая компания, скрипя зубами и не веря, сделала все, что могла, доказывая, будто бы Йаксли сам нанял О’Три для убийства, но оба упорно это отрицали, и между ними не смогли найти никакой связи.
О’Три сказал, что застрелил лошадей только потому, что, мол… «хотел малость попрактиковаться в стрельбе по цели, откуда мне было знать, ваша честь, что это ценные скаковые лошади». Его отправили с тюрьму на девять месяцев с рекомендацией поставить на учет у психиатра.
Элджин Йаксли с негодованием заявлял о том, что он человек порядочный, и угрожал подать в суд на страховую компанию за клевету, если она сейчас же не заплатит. Он выцарапал у нее всю страховую сумму и затем сошел со скаковой сцены.
«Страховая компания, – думал я, – заплатила бы Джорджу Миллесу хорошие деньги за эту фотографию, если бы знала о ее существовании. Возможно, десять процентов от того, что им не пришлось бы платить Элджину Йаксли». Точной суммы я припомнить не мог, но знал, что вся страховка за пять лошадей достигала ста пятидесяти тысяч фунтов. На самом деле именно размер выплаты так взбеленил страховщиков и заставил их заподозрить мошенничество.
Так почему же Джордж не стал просить вознаграждения? И почему он так тщательно прятал негатив? И почему его дом трижды грабили? Хотя я и так никогда не любил Джорджа Миллеса, возможный ответ на эти вопросы мне не нравился еще больше.
Утром я отправился на конюшню. Гарольд вел себя, как обычно, бурно. Перекрывая резкий свист ноябрьского ветра, бич его голоса хлестал конюхов, и, как я понял, один-другой в конце недели уволятся. Сегодня, если конюх уходит из конюшни, он обычно просто не возвращается ни на следующее утро, никогда вообще. Они втихаря уходят на какую-нибудь другую конюшню, и первые известия, которые получает о них старый хозяин, – это запрос о рекомендации от нового. Заметьте, что для большей части нынешнего поколения конюхов рекомендации – вещь, которую им никогда не дают. Это ведет к спорам и дракам, а кому охота получать в морду, когда гораздо проще увернуться? Конюхи болтаются туда-сюда по британским конюшням, это как бесконечная река, полная водоворотов. И долгая работа на одном и том же месте скорее исключение, чем правило.
– Завтракать, – с ходу прорычал мне Гарольд. – Будь там.
Я кивнул. Обычно я возвращался на завтрак домой, даже если занимался проездкой во вторую смену, что я делал только в те дни, когда не было скачек, да и то не всегда. Завтрак, по мнению жены Гарольда, состоял из огромной яичницы и горы тостов, которые выставлялись на длинный кухонный стол щедро и радушно. Все это пахло и выглядело очень вкусно, и я всегда поддавался соблазну.
– Еще колбаски, Филип? – сказала жена Гарольда, щедро нагребая прямо со сковородки. – А горячей жареной картошечки?
– Женщина, ты убьешь его, – сказал Гарольд, потянувшись за маслом.
Жена Гарольда улыбнулась мне, как умела улыбаться только она. Она думала, что я чересчур худ, и считала, что мне нужна жена. Она часто говорила мне об этом. Я не соглашался с ней и в том и в другом, но, честно говоря, она была права.
– Прошлым вечером, – сказал Гарольд, – мы не говорили о наших планах на будущую неделю.
– Нет.
– В Кемптоне в среду скачет Памфлет, – сказал он. – В двухмильных скачках с препятствиями. Тишу и Шарпенер в четверг…
Некоторое время он говорил о скачках, все время энергично жуя, так что инструкции по поводу скачек он выдавал мне краем рта вперемешку с крошками.
– Понял? – сказал он наконец.
– Да.
Похоже, с работы меня, в конце концов, прямо сейчас вышибать не собирались, и я с благодарностью облегченно вздохнул.
Гарольд глянул в большую кухню, где его жена складывала посуду в посудомоечный агрегат, и сказал:
– Виктору не понравилось твое поведение.
Я не ответил.
– От жокея в первую очередь требуют верности, – сказал Гарольд.
Это была чушь. От жокея в первую очередь требуется, чтобы он отрабатывал свои деньги.
– Как скажете, мой фюрер, – промямлил я.
– Владельцы не станут держать жокеев, которые высказываются по поводу их моральных устоев.
– Тогда владельцам не надо дурить публику.
– Ты кончил есть? – резко спросил он.
– Да, – с сожалением вздохнул я.
– Тогда пошли в офис.
Он пошел впереди меня в красновато-коричневую комнату, полную холодного голубоватого утреннего света. Камин еще не топили.
– Закрой дверь, – сказал он.
Я закрыл.
– Ты должен выбрать, Филип, – сказал он. Он стоял у камина, поставив ногу на кирпич у очага. Большой мужчина в костюме для верховой езды, пахнущий лошадьми, свежим воздухом и яичницей.
Я неопределенно помалкивал.
– Виктору время от времени будет нужно проиграть скачку. И не раз, признаюсь, поскольку это и так очевидно. Но, в конце концов, придется. Он говорит, если ты действительно не хочешь этого делать, то нам придется взять кого-нибудь другого.
– Только для этих скачек?