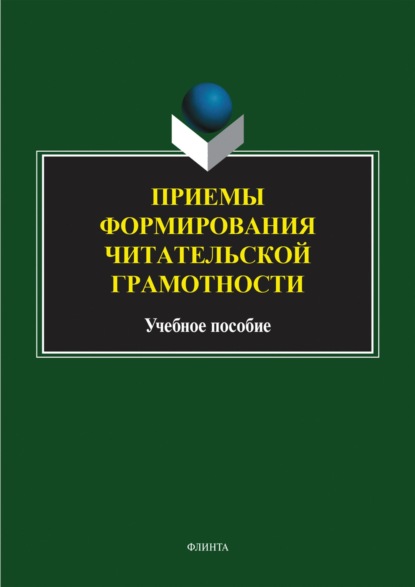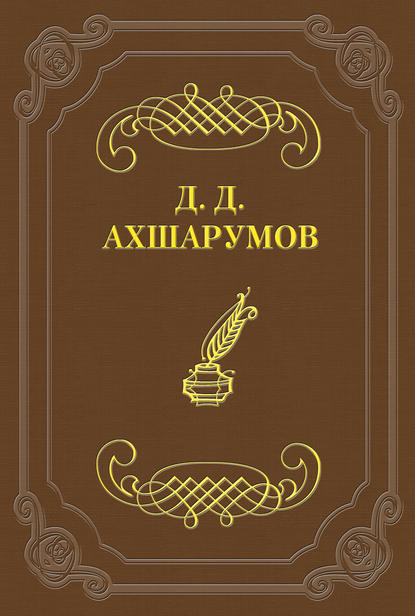По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихотворения
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ужасной вышины, с огромной головой,
И руки грязные с участьем простирало:
Старуха мерзкая, отжившая свой век.
Немытая со дня рожденья,
На ней болезнь, разврат и преступленье, —
Всё, чем когда-либо был гадок человек;
Навешены на ней сокровища земли —
И жемчуг, и алмаз, и золота куски,
Но язвами покрыто ее тело
И из-под золотой блистающей парчи
Рубаха черная лохмотьями висела.
Глава косматая покровом величавым
Покрыта вся, как твердою броней,
Кругом штыки, мечи, доспехи дикой славы.
И там же наверху лежал закон кровавый,
И эшафот стоял, с отрубленной главой.
На раменах ее столицы возвышались,
Их куполы церквей, блистая, красовались,
И между ними был и наш шпиц крепостной,
И он не меньше всех блистал своей главой.
И там же близ церквей построены темницы,
И за решетками, едва просунув нос,
Виднелись в окнах всё замученные лица:
В глазах их не было ни капли больше слез,
И нечем было им ни плакать, ни молиться.
Глазам не веря, я, испуганный, стоял:
"Откуда предо мной ужасное виденье?
Откуда ты взялось и кто тебя призвал,
Ужель и ты, творца великого творенье,
Имеешь право жить, живое существо?!
Ужель в груди твоей есть жизнь и сердце бьется.
И кровь, живая кровь, по жилам твоим льется?
Ужасен образ твой и страшно бытие!"
Я заслонил глаза, закрыв лицо руками,
Но образ предо мной стоял всё, как живой,
И звук пронзительный, и громкий, и глухой,
Вдруг оглушил меня ужасными словами:
"Дитя мое! Со мной ведь ты давно знаком,
Чего ж боишься ты? приди в мои объятья!
Я отнесу тебя в родной твой край и дом,
Я возвращу тебе друзей, родных и братьев!"
Я бросился бежать – она за мной вослед:
"Тебя избавлю я от этих мук и бед;
Дитя мое! Ужель меня ты не узнал?
Я мать твоя, – она мне говорила, —
Вот у меня сосцы, – не ты ли их сосал?
Мой друг, мое дитя, не я ль тебя вскормила?"
От изумленья я чуть мертвый не у пял,
Но страхом гибели мне сердце всё облило,
И легок стал мне путь, где я изнемогал:
Я в гору бросился бежать изо всей силы
И долго, долго я, испуганный, бежал,
Ужасный образ тот из глаз моих пропал,
И я, измученный, на землю повалился…
. . . . . . . . . .
В пустыне знойной я лежал без чувств, немой,
Но вот, очнувшись вновь, я к жизни пробудился
И вдруг почувствовал прохладу над собой,
Как будто целый лее шумел и шевелился,
И осыпаем был я пылью водяной;
Смотрю – густая сень, качаяся ветвями.
Широколиственно склонилась надо мной,
И, рассыпаяся журчащими струями,
Бил из земли фонтан; всё свежестью дышало
И ароматами цветов благоухало.
Откуда ты взялась, таинственная сень,
И кто тебя взрастил в пустыне в знойный день?!
Живой родник гремел, журчал, бежал ручьями,
И я прильнул к нему палящими устами
И жажду утолил.
О непостижная природа, жизни мать,
Иль бог, всесильный бог, святое провиденье!
Ты знаешь, что кому, когда и как подать,
Погибшему послать и отдых и спасенье!..
Меж тем стемнело всё, – я на горе стоял…
И, оглянувшися, увидел, изумленный,
Тот город, где я жил, томился и страдал, —
Там, в глубине внизу, огнями освещенный.
Он как бы в пропасти передо мной мерцал!
«Судьба жестокая свершилась надо мной…»
Судьба жестокая свершилась надо мной.
От смертной казни я едва освобожденный
Стою среди снегов, один, в стране чужой,
В остроге, как в тюрьме, погибнуть осужденный.
Прощай, мой милый край, семья моя родная!
Всё лучшее, что в жизни я любил,
И родина моя, столица дорогая!
Я с вами счастлив был, но счастья не ценил.
Вас больше нет при мне, судьбы рукой суровой
В изгнанье дальнее влекусь я, – скорбь в душе!
Так, вихрем сорванный от дерева родного,
Летит зеленый лист увянуть вдалеке!..
Свободы я лишен, и в бегстве нет спасенья;
В обители снегов один я здесь стою…
И руки грязные с участьем простирало:
Старуха мерзкая, отжившая свой век.
Немытая со дня рожденья,
На ней болезнь, разврат и преступленье, —
Всё, чем когда-либо был гадок человек;
Навешены на ней сокровища земли —
И жемчуг, и алмаз, и золота куски,
Но язвами покрыто ее тело
И из-под золотой блистающей парчи
Рубаха черная лохмотьями висела.
Глава косматая покровом величавым
Покрыта вся, как твердою броней,
Кругом штыки, мечи, доспехи дикой славы.
И там же наверху лежал закон кровавый,
И эшафот стоял, с отрубленной главой.
На раменах ее столицы возвышались,
Их куполы церквей, блистая, красовались,
И между ними был и наш шпиц крепостной,
И он не меньше всех блистал своей главой.
И там же близ церквей построены темницы,
И за решетками, едва просунув нос,
Виднелись в окнах всё замученные лица:
В глазах их не было ни капли больше слез,
И нечем было им ни плакать, ни молиться.
Глазам не веря, я, испуганный, стоял:
"Откуда предо мной ужасное виденье?
Откуда ты взялось и кто тебя призвал,
Ужель и ты, творца великого творенье,
Имеешь право жить, живое существо?!
Ужель в груди твоей есть жизнь и сердце бьется.
И кровь, живая кровь, по жилам твоим льется?
Ужасен образ твой и страшно бытие!"
Я заслонил глаза, закрыв лицо руками,
Но образ предо мной стоял всё, как живой,
И звук пронзительный, и громкий, и глухой,
Вдруг оглушил меня ужасными словами:
"Дитя мое! Со мной ведь ты давно знаком,
Чего ж боишься ты? приди в мои объятья!
Я отнесу тебя в родной твой край и дом,
Я возвращу тебе друзей, родных и братьев!"
Я бросился бежать – она за мной вослед:
"Тебя избавлю я от этих мук и бед;
Дитя мое! Ужель меня ты не узнал?
Я мать твоя, – она мне говорила, —
Вот у меня сосцы, – не ты ли их сосал?
Мой друг, мое дитя, не я ль тебя вскормила?"
От изумленья я чуть мертвый не у пял,
Но страхом гибели мне сердце всё облило,
И легок стал мне путь, где я изнемогал:
Я в гору бросился бежать изо всей силы
И долго, долго я, испуганный, бежал,
Ужасный образ тот из глаз моих пропал,
И я, измученный, на землю повалился…
. . . . . . . . . .
В пустыне знойной я лежал без чувств, немой,
Но вот, очнувшись вновь, я к жизни пробудился
И вдруг почувствовал прохладу над собой,
Как будто целый лее шумел и шевелился,
И осыпаем был я пылью водяной;
Смотрю – густая сень, качаяся ветвями.
Широколиственно склонилась надо мной,
И, рассыпаяся журчащими струями,
Бил из земли фонтан; всё свежестью дышало
И ароматами цветов благоухало.
Откуда ты взялась, таинственная сень,
И кто тебя взрастил в пустыне в знойный день?!
Живой родник гремел, журчал, бежал ручьями,
И я прильнул к нему палящими устами
И жажду утолил.
О непостижная природа, жизни мать,
Иль бог, всесильный бог, святое провиденье!
Ты знаешь, что кому, когда и как подать,
Погибшему послать и отдых и спасенье!..
Меж тем стемнело всё, – я на горе стоял…
И, оглянувшися, увидел, изумленный,
Тот город, где я жил, томился и страдал, —
Там, в глубине внизу, огнями освещенный.
Он как бы в пропасти передо мной мерцал!
«Судьба жестокая свершилась надо мной…»
Судьба жестокая свершилась надо мной.
От смертной казни я едва освобожденный
Стою среди снегов, один, в стране чужой,
В остроге, как в тюрьме, погибнуть осужденный.
Прощай, мой милый край, семья моя родная!
Всё лучшее, что в жизни я любил,
И родина моя, столица дорогая!
Я с вами счастлив был, но счастья не ценил.
Вас больше нет при мне, судьбы рукой суровой
В изгнанье дальнее влекусь я, – скорбь в душе!
Так, вихрем сорванный от дерева родного,
Летит зеленый лист увянуть вдалеке!..
Свободы я лишен, и в бегстве нет спасенья;
В обители снегов один я здесь стою…