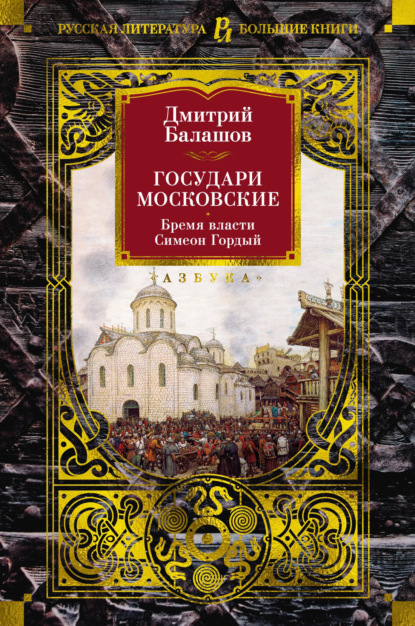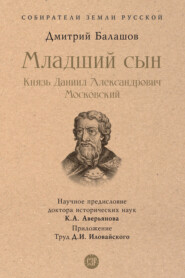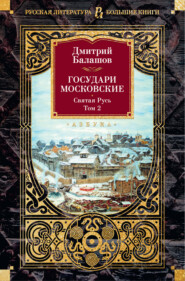По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Князь отчаянно махнул рукой. В прежние годы, еще при Михайле, когда ему довелось наместничать во Пскове, было много легче. Оттоле и серебро шло, и товар. А теперь московиты зажали совсем! Кабы не тверские гости, то и продать хлеб, лен или говядину и немочно было! Соболя, что когда-то обильно водился по Дубне и Яхроме, княжеские добытчики почитай выбили совсем, бобра тоже поменело. Дорогих шкур, что шли в Новгород в обмен на серебро, нынче стало негде и доставать. Многоразличные ездоки из Москвы и в Москву, наглые, требующие даром кормов и постоя, до того разорили припутные деревни, что народ начал подаваться кто в тверские, а кто в московские пределы. А выход ордынский давай за всех, и за убеглых тоже, не сбавят! Князь притянул к себе вощаницы и невидяще уставил в них свой потухающий взор. Была молодость, сила, надежды великие, честолюбие паче меры… А ныне вон засаленные полы, драные рукава в заплатах – и это княжеские обиходные порты! Не на черный двор – к боярам в них выходит! Едина бархатная ферязь с серебряными пуговицами хранится как зеница ока, в ней он и нынче поедет в Орду. А подарки: хану, вельможам, слугам вельмож, нукерам, писцам, придверникам… Откуда их взять? Кого упросить, пред кем пасть на колени? Мужиков обложить лишнею данью, дак и вовсе разбегутся все! Боярам уже стыдно и в очи поглядеть. В Орду едут с ним на свой кошт, от князя когда полть мяса перепадет, а уж серебра…
– Дай кошель! – потребовал князь хрипло. Ключник высыпал на стол жалкую горку тяжких – безмерно тяжких, с кровавыми трудами добытых! – гривен-новогородок. «Хоть по дорогам обозы разбивай!» – в отчаянии думал князь. Молодцы обтерхались все, ни одеть, ни оборужить путем. Приходит расставаться с дедовой дорогою бронью и саблю ту, аварскую, в подарок везти (мало будто у ордынцев своих сабель!). Материны колты и жемчуг… Стыдновато вроде… А! Кожу сымают, дак зипуна не жалей! Просил у Ивана Данилыча, намекал: дозволь, мол, послать своих молодцов с московитами Торжок пограбить, хоша б зипунов добыли… Не дал. Кланялся и великой княгине тверской, Анне, ради мужа покойного могла бы чем и пособить! Не может, у самой руки связаны. Сын-от старшой на Пскове сидит! А и он, Борис, виноват! В те-то поры не поддержали Михайлу Ярославича перед ханом, вси откачнули от него, спрятались, поддались Даниловичам! И он тоже не возмог, да и не похотел… Нет, один конец: доставать последнее береженое добро и со всем, со всема в Орду, к хану на суд, на расправу… Выход, бают, не в срок даю! Дак выход тот даю преже великому князю, он и держит у себя излиха, а не скажи! Да князь я или нет?! И мы от великого Всеволода! И нас не замай! Нас посбить с уделов, а там и сам-от не усидит! Мор ли, что, али какой дурной родит, в семье ить не без урода, и тогда: где князи русстии? Кто возможет? А уже и нету! И никто не возможет! Как на Волыни створилось: побил Данил Романыч бояр да князей, сел сам королем, на столе, а после, глядишь, при внуках-правнуках, и обветшало-исшаяло, и нетути никого. Ляхи да Литва все под себя и забрали! Так-то! Он разгорячился, выпрямил стан, смешновато вздернул бородкой, не видя себя со стороны, не ведая, что смешон и жалок в своем латаном-перелатаном платье, с этою худой морщинистой шеей и старческой дрожью рук. «Ужо! – пообещал он мысленно. – Нынче доложу хану, все доложу! Паду в ноги, пущай уймет князя Ивана, пущай…»
– Эй, Онтипа! Как думашь, уймет хан Данилыча? – вопросил он. Ключник пожал широкими плечами, взъерошил бороду, начал чесать за ухом, отводя глаза.
– Кубыть и склонит слух, дак тово… даров маловато! В Орде ить без приноса никуда и не сунесси!
Князь перевел глаза вкось, во взгляде ключника поймал невольное отражение свое – жалость, смешанную с небрежением, – и поник головой. Надо ехать в Орду! А там – что Бог даст… Есть же правда хотя в небесах, у Вышнего!
Глава 35
Иван Данилыч, прибывши в Сарай, узнал, что князь Борис Дмитровский уже четвертый день как прибыл и ходит по домам вельмож ордынских. Он недовольно поморщился: хожденье дмитровского князя грозило лишними расходами. Нать было попридержать дорогою! «Эк, не хватились вовремя!» – подумал Иван и отправился к беглербегу. Тот, получив московский принос, встретил Калиту как старого друга. За чашею хмельного кумыса, покачивая головой и щуря в улыбке непроницаемые глаза, попенял:
– Ай, ай, князь! Нехорошо! Бают, дань держишь у себя!
– Это кто ж, не предатель ли ханский, не князь ли Борис налгал? – Иван искоса бросил острый взгляд и продолжал с нажимом: – А ведомо кесарю Узбеку, яко сей служил Михайле Тверскому по Плескову и ныне сносится со плесковичи, со князем Александром Михалычем, а вкупе и со князем Гедимином, мысля град Смоленский под Литву склонить и тем нашему кесарю великую обиду учинить, а ханской казне умаление?
Беглербег застыл, загадочно и недвижно вперив взгляд в лицо Калиты. Потом быстро поставил чашу, склонился вперед, свистящим шепотом требовательно вопросил:
– Докажешь?
Иван отклонился, спокойно, допив кумыс, отер усы. Медленно извлек кожаный кошель, медленно развернул грамоту, старую, удостоверяющую одну лишь службу Бориса во Пскове. Дал прочесть неслышно подсевшему к ним толмачу. Потом извлек вторую – невинное с виду письмо в Дмитров из-за рубежа, перехваченное на Волоке, – подал и его, и, наконец, как главную свою козырную биту – послание Гедимина в Смоленск, попавшее в руки брянского князя и проданное Калите, где был неосторожно упомянут и князь дмитровский, неясно, правда, по какому делу, но… После двух предыдущих грамот… чтущий да разумеет! Ежели к тому подсказать и досказать, уповая на вечную подозрительность Узбека…
– А что выход задерживал еговый, то пустое! Недодавал, дак и приходило неволею задерживать! Эдак он и половину выхода привозить учнет, а я из своих плати? Тоже ить серебро не из земли рою!
Беглербег думал, щурясь и все не отрывая глаз от грамоты, потом довольно раскатился мелким дробным смешком:
– Умен ты, князь! Ох умен! – Вопросил лукаво: – Может, и поверит тебе хан! А?
Иван чуть заметно пожал плечами:
– Не поверит – потеряет Смоленск! – Взглянул прямо и простодушно, как только он и умел. Беглербег кончил хохотать, покачал головой, задумался. Иван осторожно поставил на ковер золотую чарку с красным камнем в рукояти, подвинул ее к беглербегу. Тот уставился на чарку, поцокал, покивал головой, одобряя, и, словно бы рассеянно, пододвинул к себе. Вздохнул, еще вздохнул, глянул исподлобья, уже без улыбки, сказал:
– Доложу повелителю!
Иван на всякий случай объехал в тот день и назавтра еще и других, всюду перевешивая дмитровского князя дарами, пока не почувствовал, что хватит – чаша весов, безусловно, склонилась на его сторону. Ему даже на мгновение стало жаль неразумного соседа, что поволокся в Орду тщетно спорить с ним, Иваном. Последнее добро, чать, выгреб из сундуков! Лучше бы о себе попридержал. Хоша супруге на прокорм оставить!
Жалость как пришла, так и ушла. Было не до жалости. Маленькое Дмитровское княжество стояло тем не менее на северных путях торговых. Москве или Твери, а поддаться оно должно было все равно. Даром ли при Михайле во тверских подручных ходили? «Забрать Дмитров – умалить Тверь, старого ворога своего!» – подумал так – и стало не жаль старика. Мешал. А потому – надлежало убрать.
И снова был Узбек. Свой, родной, до смутного ужаса любимый, капризный и изменчивый, как балованная красавица, явно что-то скрывающий от него на сей раз… И снова это загадочное:
– Не много ли ты хочешь, князь?
(Не много, ой, не много! Знал бы ты, кесарь, сколь безмерны желанья мои и какой малости добиваюсь от тебя ныне! Слава Вышнему, что он один веси тайная сердец человеческих!)
И снова улыбки и дары, дары и улыбки… Старые знакомцы постарались за него излиха. И все-таки был один миг неверный, миг, в который Иван едва не смутился духом. Это когда старый дмитровский князь, понявши наконец, что потерял все, что малые дары его ни во что же пришли и даже последней жалкой чести – чести верного ханского слуги – ему не оставляют, обвинив в союзе с Литвой и измене, вдруг непристойно и нелепо, как не ведут себя никогда в ханских покоях, завопил, вытягивая худую шею, тыкая издали в Ивана острым перстом. Завопил, заорал надрывно, исказясь ликом, брызгаясь, выкрикивая что-то неразборчивое, взахлеб, где только и было слышно:
– Тать! Кровопивец! Тать! Тать! Тать! Ростов и нас!.. Ростов и нас! Пожди! Ужо! Погоди! Суда Божья! Аспид! Тать! Тать! Тать! Кровопивец несытый!
И пока его выводили под руки, почти волокли по коврам – ноги князя Бориса не слушались, заплетались, цепляя, – все то время старик бесстудно орал и тыкал, тыкал перстом в Ивана, изрыгая хулы и проклятья.
Калите много стало поиметь сил, чтобы с пристойною жалостью и пристойными взглядами посетовать хану на безлепое поведение князя Бориса Давыдовича, попросить снисхожденья соседу, заверив, что сам он, Иван, никакой неправды творить не будет и сверх того, что достоит по закону ханского выхода, с дмитровцев отнюдь не возьмет. (Последнее лишнее было говорить, да так уж вымолвилось невзначай…)
А едучи домой и проезжая мимо Борисова подворья, боялся все, что вот сейчас выскочит дмитровский князь, рухнет под конские копыта или иное какое пребезобразие учинит… Ждал напрасно. Князь Борис, как приволокли давеча домой, так, сказывали, и не встал с одра. Сердце ли надорвал себе криком или иное что, только назавтра уже повещали о смерти старого дмитровского князя. И еще было искушение: идти ли в церковь? Себя пересилив, пошел. Дмитровские бояре расступились перед ним даже с некоторым ужасом. Иван приблизился ко гробу. Лик Бориса был строг и хладен, с печатью благородства древних княжеских кровей. То искажение черт, от бедности и бессилия бывшее, злоба и мука лица ушли со смертию, с миновением земных горестей и страстей.
«И с ним предстоит стати ми перед Господом!» – сурово подумал Иван, склоняя голову и осеняя себя знамением крестным.
В негустой толпе дмитровцев послышался подавленный всхлип. Кто-то из слуг покойного неложно страдал по господине своем.
«И что теперь? – думал Иван, остановясь и глядя на ледяной, отрешенный мира сего костистый лик смерти. – Теперь Галич (брат покойного такожде не молод зело!) и Ярославль. Паче всего Ярославль! И вновь и опять ему – творить зло, а им – проклинать его, яко изверга и лиходея. И что потом? Умереть, не доделав, не совершив и токмо питая надежду на детей, на потомков, что удержат, выдержат, возмогут и впредь сие!
И не зреть мне земли обетованной! Не узреть плодов взращенного древия! И грехи и скорби – на мне! И сия смерть… И одна ли она? И проклянут мя, и станут ругатися мене, и память мою изженят из сердец своих! А я? Я не могу и не хочу иного пути и иного креста Господня!»
Иван медленно отворотил лик от покойника и неспешно, твердо ступая, покинул церковь. В уме его уже слагалось, чем и как мочно воспользовати в Дмитрове (мытный двор под себя забрать, конечно!), дабы враз и с лихвою оправдать пожалованный ему ныне дмитровский ярлык.
Все, кто был до него на великом владимирском столе, разорялись, насыщая Орду. Даже Михайла Тверской споткнулся на этом. И только он, Калита, с каждым новым ярлыком, с каждой покупкою становится богаче, а не беднее. И быть может, так и надо, чтобы было трудно, чтобы было столь трудно порой, что почти свыше силы! Должен ему Господь напоминать о язвах его, и о карах, и о суде грядущем, строгом и праведном, где предстоит ему стати одесную престола со всеми ими, загубленными здесь, и отвечивать Вышнему вся тайная сердца своего, и молить милости грешной душе своей ради единого в ней, ради того, что не для себя (вернее же, не для себя только!) творил он вся скверная и собирал… Не землю даже, и тем менее богатства земные, но единое то, без чего страждет разорванная и угнетенная агарянами русская земля, единое то, чем совокупляют себя народы и на чем стоят царствы земные, – власть.
Часть вторая
Тверской колокол
Глава 36
Колокол – великий, слитый еще убиенным супругом, чудом уцелевший в погроме и разорении Твери, – мерно отослал в Заволжье последний свой тяжкий удар. Томительный голос меди еще долго звучал в морозном далеке или в ушах то звенело? Анна вновь и опять вспомнила покойного. Не так часто вспоминала и сына, Митю, тоже погубленного в Орде. Ныне, когда прошло и поотдалилось, позаросли временем острые подробности каждого дня, вновь не могла понять, поверить, какою судьбою столь гибельно поворотило в ту пору? Почему одолел Юрий? Почему одолела Москва? Почему возник, именно возник, словно наваждение бесовское, некогда тихий и незаметный, а ныне пугающе страшный Иван?
Сердце, ее старое сердце, начинало сдавать. Вот и ныне, ощутив головное кружение и тягучую немоту в членах, отдумала идти в церковь, стала на молитву у себя, в иконном покое. Никто не должен узреть невольной слабости великой княгини тверской! Ни народ, ни бояре, ни Константин, ни тем паче золовка-московка, дочь покойного Юрия Данилыча, врага смертного, вековечного, убийцы и татя. Перед нею всегда старалась выглядеть сильной: пусть не ждет скорой смерти свекрови! Прежде пущай Сашок воротит во Тверь!
А паче того, не должно Анне сегодня утомлять себя излиха, ибо приезжает внук, далекий, жданный и еще, почитай, не виданный ни разу с младенческих лет! Едет на первый погляд! Федор, Федя, Федюша, Феденька, не знай как и назвать ради нонешней встречи! На кого стал похож? Втайне хотелось бы, чтобы на деда своего, – и ошиблась. На деда походил (чего так и не узнала никогда) самый младший, по деду и названный, Михаил.
Окончив молитву, вместо того чтобы идти, как обычно, по службам, поднялась по лесенке, – закутавши плечи в долгий соболий, подбитый шелком, почти невесомый опашень, а голову – в пуховый плат, – прошла намороженными переходами и с них, проминовав двух сторожей, почтительно отступивших перед старою госпожой, вышла на стрельницу городовой стены. Холод отдал, и с Волги, издалече, тянуло свежестью и словно бы уже сырью неблизкой еще весны. Серповидно изгибаясь, уходила вдаль белая дорога реки, тянулись амбары, клети, пристани, сейчас запорошенные снегом, а весеннею порой кишмя кишащие народом. Глаз ловил привычно голызины того, давнего, разоренья, измеряя, сколь еще осталось незастроенных пространств в прежних пределах градских. Медленно подымалась Тверь! Совсем не так, как в прежние годы… И все ж подымалась, росла, густела людом, сильнела торговлею. Пусть скорее приезжает Федор! Старое сердце начинает сдавать. Умри она в одночасье, и – как знать? – отступит ли Константин перед Сашком безо спору? Или московская жена, вкупе с князем Иваном, склонят его к тому, чтобы не пустить старшего брата на отчий стол! Константин был ненадежен, робок, податлив на чужую волю… Бог с ним. Это ее вина! Робела тогда, когда носила во чреве, вот и… Другие не таковы были – ни Митя покойный, ни Сашок, ни даже Василий. Митя, Митя! Грех на мне, стала тебя забывать! Почто это так сотворено, что гибнут всегда самолучшие, самые храбрые, самые честные. Им бы и жить! Им бы и детей водить! Скот держат, дак на племя всегда оставляют лучших, а в людях, словно бы слепы, лучших завсегда преже пошлют на убой!
Вон по той дороге от Торжка, мимо Отроча монастыря, едет он, внук, старшенький ее второго сына, Александра, Федор. Федя, Федюша… Что ему сказать, как приветить? Что насоветовать ныне?
Злоба лежит в ее сердце. Холодным камнем или свернувшейся дремлющею змеей. Не жить им с московским князем! Худой мир с убийцами мужа и сына! Или Москва, или Тверь (все-таки Тверь!) одолеет в этой борьбе. Но вместе им уже не жить, не поладить ни в чем, никогда. И пущай московиты ликуются с ханом Узбеком! Сами, почитай, отатарились той поры! После Шевкаловой рати не осталось у нее к ордынцам ничего человеческого в душе. Выжгло огнем. Нелюди! И всё тут. Лучше Литва, немцы даже! Объяви ныне папа римский крестовый поход на Орду, она бы, верно, сама снаряжала рати в помочь католикам. Александр в Плескове, слышно, колеблется, думает. Бояре еговые стали поврозь (не Акинфичи ли воду мутят?). Скорее бы ехал Федор! В мечтах видела уже четырнадцатилетнего мальчика взрослым мужем, воеводой, мстителем за поруганный тверской род. Только сердце, старое сердце, в котором выгорело всё, кроме единого желания отомстить московитам, начинало предательски сдавать. Погоди, сердце! Потерпи! Дай встретить внука! Дай дождать Сашка. Дай возродить город и утвердить снова тверской род княжеский! Дабы, отойдя туда, могла она покойному Михаилу сказать, что как могла, как умела своими слабыми силами женскими, а отомстила-таки за него, и за сына, за Митю, тоже, и возможет глянуть им в очи и стать с ними вместе одесную престола великого и грозного судии! А прощать, яко заповедал Христос, ворогов своих… Татей не прощают – казнят!
Она стояла – прямая, высохшая, с опаленным, навечно скорбным лицом, с огромными, когда-то прекрасными, а теперь зловещими, в черно-синих тенях обводов глазами, – стояла, как статуя скорби и последней надежды, вглядываясь в кристальную, выбеленную снегами даль, в далекую дорогу, по которой скоро поскачет новый тверской князь, коему, быть может, предстоит возродить вновь величие своего города!
Но не ехал поезд, не бежали кони. Анна еще пождала, вся издрогнув. Как всегда, после приступа гнева ее начинало знобить и таяли силы. В конце концов, смешно было думать, что он прискачет именно теперь, в этот час… Погорбясь, она осторожно, почти как слепая, поворотила назад, в терема. Жизни оставалось мало, слишком мало, пугающе мало для всех дел и замыслов, что не оставляли и поднесь вдову Михайлы Тверского.
Федор приехал ввечеру и совсем не с той стороны. Глядельщики едва не проворонили княжого поезда.
Анна едва успела выбежать на крыльцо. Внук подымался, высокий, ростом почти уже со взрослого мужика, и только лицо – светлое, сияющее, румяное и такое детское-детское! – не давало ошибиться. В очи бросились знакомые лица бояр Александровых: Морхинина и младшего Бороздина, – но не до них было! Мальчик, сияющий, лучащийся светлым весенним солнышком, и в солнечных рябинках мягкий еще, детский, нос, и щеки, словно обрызганные зарей. А глаза веселые, озорные и умные, умные, конечно! Федюша! Внучоночек мой любимый! Анна обняла его не по уставу – по сердцу, вся прильнула к этой цветущей, юной плоти, к этой новой надежде своей, с падающей радостью в сердце ощутила его твердые руки (уже сейчас, верно, смог бы, откажи ей силы, на руках донести до покоя!). И этот запах свежести, юности от лица, губ, рук, волос, ото всего… Господи! Пошли мне не узрети никакого худа над отроком сим!
Внизу, на широком дворе, теснятся возы, и кони ржут, и весело гомонит дружина, и слуги носятся стремглав, разводят коней по коновязям и стойлам, задают корм, разводят гостей по клетям и повалушам. Сейчас баня, молебен, а потом пир. Радостно благовестят колокола, сверкает снег – солнце взошло над Тверью! И снова надежды, и гордые замыслы вновь, и скоро, уже очень скоро – весна!
Глава 37
Свечи в кованых серебряных стоянцах. Ордынская глазурь на столе. Ковры глушат шаги, заслонки окон задвинуты, муравленая печь пышет жаром. Свет свечей, колеблясь, отражается в кованом узорочье, в драгих окладах икон, резною тенью обводит лица бояр, великой княгини Анны и княжича Федора. На столе закуски, квасы и мед, но это не пир и не дума княжая. Скорее, тайный совет. Князя Константина здесь нет. Анна боится сына, даже не его самого, невестки, которой придется, ежели воротится Сашко, уезжать из Твери. О сю пору справлялась, держала. И сына держала: Константин знал, что должен уступить стол Сашку.
– Дай кошель! – потребовал князь хрипло. Ключник высыпал на стол жалкую горку тяжких – безмерно тяжких, с кровавыми трудами добытых! – гривен-новогородок. «Хоть по дорогам обозы разбивай!» – в отчаянии думал князь. Молодцы обтерхались все, ни одеть, ни оборужить путем. Приходит расставаться с дедовой дорогою бронью и саблю ту, аварскую, в подарок везти (мало будто у ордынцев своих сабель!). Материны колты и жемчуг… Стыдновато вроде… А! Кожу сымают, дак зипуна не жалей! Просил у Ивана Данилыча, намекал: дозволь, мол, послать своих молодцов с московитами Торжок пограбить, хоша б зипунов добыли… Не дал. Кланялся и великой княгине тверской, Анне, ради мужа покойного могла бы чем и пособить! Не может, у самой руки связаны. Сын-от старшой на Пскове сидит! А и он, Борис, виноват! В те-то поры не поддержали Михайлу Ярославича перед ханом, вси откачнули от него, спрятались, поддались Даниловичам! И он тоже не возмог, да и не похотел… Нет, один конец: доставать последнее береженое добро и со всем, со всема в Орду, к хану на суд, на расправу… Выход, бают, не в срок даю! Дак выход тот даю преже великому князю, он и держит у себя излиха, а не скажи! Да князь я или нет?! И мы от великого Всеволода! И нас не замай! Нас посбить с уделов, а там и сам-от не усидит! Мор ли, что, али какой дурной родит, в семье ить не без урода, и тогда: где князи русстии? Кто возможет? А уже и нету! И никто не возможет! Как на Волыни створилось: побил Данил Романыч бояр да князей, сел сам королем, на столе, а после, глядишь, при внуках-правнуках, и обветшало-исшаяло, и нетути никого. Ляхи да Литва все под себя и забрали! Так-то! Он разгорячился, выпрямил стан, смешновато вздернул бородкой, не видя себя со стороны, не ведая, что смешон и жалок в своем латаном-перелатаном платье, с этою худой морщинистой шеей и старческой дрожью рук. «Ужо! – пообещал он мысленно. – Нынче доложу хану, все доложу! Паду в ноги, пущай уймет князя Ивана, пущай…»
– Эй, Онтипа! Как думашь, уймет хан Данилыча? – вопросил он. Ключник пожал широкими плечами, взъерошил бороду, начал чесать за ухом, отводя глаза.
– Кубыть и склонит слух, дак тово… даров маловато! В Орде ить без приноса никуда и не сунесси!
Князь перевел глаза вкось, во взгляде ключника поймал невольное отражение свое – жалость, смешанную с небрежением, – и поник головой. Надо ехать в Орду! А там – что Бог даст… Есть же правда хотя в небесах, у Вышнего!
Глава 35
Иван Данилыч, прибывши в Сарай, узнал, что князь Борис Дмитровский уже четвертый день как прибыл и ходит по домам вельмож ордынских. Он недовольно поморщился: хожденье дмитровского князя грозило лишними расходами. Нать было попридержать дорогою! «Эк, не хватились вовремя!» – подумал Иван и отправился к беглербегу. Тот, получив московский принос, встретил Калиту как старого друга. За чашею хмельного кумыса, покачивая головой и щуря в улыбке непроницаемые глаза, попенял:
– Ай, ай, князь! Нехорошо! Бают, дань держишь у себя!
– Это кто ж, не предатель ли ханский, не князь ли Борис налгал? – Иван искоса бросил острый взгляд и продолжал с нажимом: – А ведомо кесарю Узбеку, яко сей служил Михайле Тверскому по Плескову и ныне сносится со плесковичи, со князем Александром Михалычем, а вкупе и со князем Гедимином, мысля град Смоленский под Литву склонить и тем нашему кесарю великую обиду учинить, а ханской казне умаление?
Беглербег застыл, загадочно и недвижно вперив взгляд в лицо Калиты. Потом быстро поставил чашу, склонился вперед, свистящим шепотом требовательно вопросил:
– Докажешь?
Иван отклонился, спокойно, допив кумыс, отер усы. Медленно извлек кожаный кошель, медленно развернул грамоту, старую, удостоверяющую одну лишь службу Бориса во Пскове. Дал прочесть неслышно подсевшему к ним толмачу. Потом извлек вторую – невинное с виду письмо в Дмитров из-за рубежа, перехваченное на Волоке, – подал и его, и, наконец, как главную свою козырную биту – послание Гедимина в Смоленск, попавшее в руки брянского князя и проданное Калите, где был неосторожно упомянут и князь дмитровский, неясно, правда, по какому делу, но… После двух предыдущих грамот… чтущий да разумеет! Ежели к тому подсказать и досказать, уповая на вечную подозрительность Узбека…
– А что выход задерживал еговый, то пустое! Недодавал, дак и приходило неволею задерживать! Эдак он и половину выхода привозить учнет, а я из своих плати? Тоже ить серебро не из земли рою!
Беглербег думал, щурясь и все не отрывая глаз от грамоты, потом довольно раскатился мелким дробным смешком:
– Умен ты, князь! Ох умен! – Вопросил лукаво: – Может, и поверит тебе хан! А?
Иван чуть заметно пожал плечами:
– Не поверит – потеряет Смоленск! – Взглянул прямо и простодушно, как только он и умел. Беглербег кончил хохотать, покачал головой, задумался. Иван осторожно поставил на ковер золотую чарку с красным камнем в рукояти, подвинул ее к беглербегу. Тот уставился на чарку, поцокал, покивал головой, одобряя, и, словно бы рассеянно, пододвинул к себе. Вздохнул, еще вздохнул, глянул исподлобья, уже без улыбки, сказал:
– Доложу повелителю!
Иван на всякий случай объехал в тот день и назавтра еще и других, всюду перевешивая дмитровского князя дарами, пока не почувствовал, что хватит – чаша весов, безусловно, склонилась на его сторону. Ему даже на мгновение стало жаль неразумного соседа, что поволокся в Орду тщетно спорить с ним, Иваном. Последнее добро, чать, выгреб из сундуков! Лучше бы о себе попридержал. Хоша супруге на прокорм оставить!
Жалость как пришла, так и ушла. Было не до жалости. Маленькое Дмитровское княжество стояло тем не менее на северных путях торговых. Москве или Твери, а поддаться оно должно было все равно. Даром ли при Михайле во тверских подручных ходили? «Забрать Дмитров – умалить Тверь, старого ворога своего!» – подумал так – и стало не жаль старика. Мешал. А потому – надлежало убрать.
И снова был Узбек. Свой, родной, до смутного ужаса любимый, капризный и изменчивый, как балованная красавица, явно что-то скрывающий от него на сей раз… И снова это загадочное:
– Не много ли ты хочешь, князь?
(Не много, ой, не много! Знал бы ты, кесарь, сколь безмерны желанья мои и какой малости добиваюсь от тебя ныне! Слава Вышнему, что он один веси тайная сердец человеческих!)
И снова улыбки и дары, дары и улыбки… Старые знакомцы постарались за него излиха. И все-таки был один миг неверный, миг, в который Иван едва не смутился духом. Это когда старый дмитровский князь, понявши наконец, что потерял все, что малые дары его ни во что же пришли и даже последней жалкой чести – чести верного ханского слуги – ему не оставляют, обвинив в союзе с Литвой и измене, вдруг непристойно и нелепо, как не ведут себя никогда в ханских покоях, завопил, вытягивая худую шею, тыкая издали в Ивана острым перстом. Завопил, заорал надрывно, исказясь ликом, брызгаясь, выкрикивая что-то неразборчивое, взахлеб, где только и было слышно:
– Тать! Кровопивец! Тать! Тать! Тать! Ростов и нас!.. Ростов и нас! Пожди! Ужо! Погоди! Суда Божья! Аспид! Тать! Тать! Тать! Кровопивец несытый!
И пока его выводили под руки, почти волокли по коврам – ноги князя Бориса не слушались, заплетались, цепляя, – все то время старик бесстудно орал и тыкал, тыкал перстом в Ивана, изрыгая хулы и проклятья.
Калите много стало поиметь сил, чтобы с пристойною жалостью и пристойными взглядами посетовать хану на безлепое поведение князя Бориса Давыдовича, попросить снисхожденья соседу, заверив, что сам он, Иван, никакой неправды творить не будет и сверх того, что достоит по закону ханского выхода, с дмитровцев отнюдь не возьмет. (Последнее лишнее было говорить, да так уж вымолвилось невзначай…)
А едучи домой и проезжая мимо Борисова подворья, боялся все, что вот сейчас выскочит дмитровский князь, рухнет под конские копыта или иное какое пребезобразие учинит… Ждал напрасно. Князь Борис, как приволокли давеча домой, так, сказывали, и не встал с одра. Сердце ли надорвал себе криком или иное что, только назавтра уже повещали о смерти старого дмитровского князя. И еще было искушение: идти ли в церковь? Себя пересилив, пошел. Дмитровские бояре расступились перед ним даже с некоторым ужасом. Иван приблизился ко гробу. Лик Бориса был строг и хладен, с печатью благородства древних княжеских кровей. То искажение черт, от бедности и бессилия бывшее, злоба и мука лица ушли со смертию, с миновением земных горестей и страстей.
«И с ним предстоит стати ми перед Господом!» – сурово подумал Иван, склоняя голову и осеняя себя знамением крестным.
В негустой толпе дмитровцев послышался подавленный всхлип. Кто-то из слуг покойного неложно страдал по господине своем.
«И что теперь? – думал Иван, остановясь и глядя на ледяной, отрешенный мира сего костистый лик смерти. – Теперь Галич (брат покойного такожде не молод зело!) и Ярославль. Паче всего Ярославль! И вновь и опять ему – творить зло, а им – проклинать его, яко изверга и лиходея. И что потом? Умереть, не доделав, не совершив и токмо питая надежду на детей, на потомков, что удержат, выдержат, возмогут и впредь сие!
И не зреть мне земли обетованной! Не узреть плодов взращенного древия! И грехи и скорби – на мне! И сия смерть… И одна ли она? И проклянут мя, и станут ругатися мене, и память мою изженят из сердец своих! А я? Я не могу и не хочу иного пути и иного креста Господня!»
Иван медленно отворотил лик от покойника и неспешно, твердо ступая, покинул церковь. В уме его уже слагалось, чем и как мочно воспользовати в Дмитрове (мытный двор под себя забрать, конечно!), дабы враз и с лихвою оправдать пожалованный ему ныне дмитровский ярлык.
Все, кто был до него на великом владимирском столе, разорялись, насыщая Орду. Даже Михайла Тверской споткнулся на этом. И только он, Калита, с каждым новым ярлыком, с каждой покупкою становится богаче, а не беднее. И быть может, так и надо, чтобы было трудно, чтобы было столь трудно порой, что почти свыше силы! Должен ему Господь напоминать о язвах его, и о карах, и о суде грядущем, строгом и праведном, где предстоит ему стати одесную престола со всеми ими, загубленными здесь, и отвечивать Вышнему вся тайная сердца своего, и молить милости грешной душе своей ради единого в ней, ради того, что не для себя (вернее же, не для себя только!) творил он вся скверная и собирал… Не землю даже, и тем менее богатства земные, но единое то, без чего страждет разорванная и угнетенная агарянами русская земля, единое то, чем совокупляют себя народы и на чем стоят царствы земные, – власть.
Часть вторая
Тверской колокол
Глава 36
Колокол – великий, слитый еще убиенным супругом, чудом уцелевший в погроме и разорении Твери, – мерно отослал в Заволжье последний свой тяжкий удар. Томительный голос меди еще долго звучал в морозном далеке или в ушах то звенело? Анна вновь и опять вспомнила покойного. Не так часто вспоминала и сына, Митю, тоже погубленного в Орде. Ныне, когда прошло и поотдалилось, позаросли временем острые подробности каждого дня, вновь не могла понять, поверить, какою судьбою столь гибельно поворотило в ту пору? Почему одолел Юрий? Почему одолела Москва? Почему возник, именно возник, словно наваждение бесовское, некогда тихий и незаметный, а ныне пугающе страшный Иван?
Сердце, ее старое сердце, начинало сдавать. Вот и ныне, ощутив головное кружение и тягучую немоту в членах, отдумала идти в церковь, стала на молитву у себя, в иконном покое. Никто не должен узреть невольной слабости великой княгини тверской! Ни народ, ни бояре, ни Константин, ни тем паче золовка-московка, дочь покойного Юрия Данилыча, врага смертного, вековечного, убийцы и татя. Перед нею всегда старалась выглядеть сильной: пусть не ждет скорой смерти свекрови! Прежде пущай Сашок воротит во Тверь!
А паче того, не должно Анне сегодня утомлять себя излиха, ибо приезжает внук, далекий, жданный и еще, почитай, не виданный ни разу с младенческих лет! Едет на первый погляд! Федор, Федя, Федюша, Феденька, не знай как и назвать ради нонешней встречи! На кого стал похож? Втайне хотелось бы, чтобы на деда своего, – и ошиблась. На деда походил (чего так и не узнала никогда) самый младший, по деду и названный, Михаил.
Окончив молитву, вместо того чтобы идти, как обычно, по службам, поднялась по лесенке, – закутавши плечи в долгий соболий, подбитый шелком, почти невесомый опашень, а голову – в пуховый плат, – прошла намороженными переходами и с них, проминовав двух сторожей, почтительно отступивших перед старою госпожой, вышла на стрельницу городовой стены. Холод отдал, и с Волги, издалече, тянуло свежестью и словно бы уже сырью неблизкой еще весны. Серповидно изгибаясь, уходила вдаль белая дорога реки, тянулись амбары, клети, пристани, сейчас запорошенные снегом, а весеннею порой кишмя кишащие народом. Глаз ловил привычно голызины того, давнего, разоренья, измеряя, сколь еще осталось незастроенных пространств в прежних пределах градских. Медленно подымалась Тверь! Совсем не так, как в прежние годы… И все ж подымалась, росла, густела людом, сильнела торговлею. Пусть скорее приезжает Федор! Старое сердце начинает сдавать. Умри она в одночасье, и – как знать? – отступит ли Константин перед Сашком безо спору? Или московская жена, вкупе с князем Иваном, склонят его к тому, чтобы не пустить старшего брата на отчий стол! Константин был ненадежен, робок, податлив на чужую волю… Бог с ним. Это ее вина! Робела тогда, когда носила во чреве, вот и… Другие не таковы были – ни Митя покойный, ни Сашок, ни даже Василий. Митя, Митя! Грех на мне, стала тебя забывать! Почто это так сотворено, что гибнут всегда самолучшие, самые храбрые, самые честные. Им бы и жить! Им бы и детей водить! Скот держат, дак на племя всегда оставляют лучших, а в людях, словно бы слепы, лучших завсегда преже пошлют на убой!
Вон по той дороге от Торжка, мимо Отроча монастыря, едет он, внук, старшенький ее второго сына, Александра, Федор. Федя, Федюша… Что ему сказать, как приветить? Что насоветовать ныне?
Злоба лежит в ее сердце. Холодным камнем или свернувшейся дремлющею змеей. Не жить им с московским князем! Худой мир с убийцами мужа и сына! Или Москва, или Тверь (все-таки Тверь!) одолеет в этой борьбе. Но вместе им уже не жить, не поладить ни в чем, никогда. И пущай московиты ликуются с ханом Узбеком! Сами, почитай, отатарились той поры! После Шевкаловой рати не осталось у нее к ордынцам ничего человеческого в душе. Выжгло огнем. Нелюди! И всё тут. Лучше Литва, немцы даже! Объяви ныне папа римский крестовый поход на Орду, она бы, верно, сама снаряжала рати в помочь католикам. Александр в Плескове, слышно, колеблется, думает. Бояре еговые стали поврозь (не Акинфичи ли воду мутят?). Скорее бы ехал Федор! В мечтах видела уже четырнадцатилетнего мальчика взрослым мужем, воеводой, мстителем за поруганный тверской род. Только сердце, старое сердце, в котором выгорело всё, кроме единого желания отомстить московитам, начинало предательски сдавать. Погоди, сердце! Потерпи! Дай встретить внука! Дай дождать Сашка. Дай возродить город и утвердить снова тверской род княжеский! Дабы, отойдя туда, могла она покойному Михаилу сказать, что как могла, как умела своими слабыми силами женскими, а отомстила-таки за него, и за сына, за Митю, тоже, и возможет глянуть им в очи и стать с ними вместе одесную престола великого и грозного судии! А прощать, яко заповедал Христос, ворогов своих… Татей не прощают – казнят!
Она стояла – прямая, высохшая, с опаленным, навечно скорбным лицом, с огромными, когда-то прекрасными, а теперь зловещими, в черно-синих тенях обводов глазами, – стояла, как статуя скорби и последней надежды, вглядываясь в кристальную, выбеленную снегами даль, в далекую дорогу, по которой скоро поскачет новый тверской князь, коему, быть может, предстоит возродить вновь величие своего города!
Но не ехал поезд, не бежали кони. Анна еще пождала, вся издрогнув. Как всегда, после приступа гнева ее начинало знобить и таяли силы. В конце концов, смешно было думать, что он прискачет именно теперь, в этот час… Погорбясь, она осторожно, почти как слепая, поворотила назад, в терема. Жизни оставалось мало, слишком мало, пугающе мало для всех дел и замыслов, что не оставляли и поднесь вдову Михайлы Тверского.
Федор приехал ввечеру и совсем не с той стороны. Глядельщики едва не проворонили княжого поезда.
Анна едва успела выбежать на крыльцо. Внук подымался, высокий, ростом почти уже со взрослого мужика, и только лицо – светлое, сияющее, румяное и такое детское-детское! – не давало ошибиться. В очи бросились знакомые лица бояр Александровых: Морхинина и младшего Бороздина, – но не до них было! Мальчик, сияющий, лучащийся светлым весенним солнышком, и в солнечных рябинках мягкий еще, детский, нос, и щеки, словно обрызганные зарей. А глаза веселые, озорные и умные, умные, конечно! Федюша! Внучоночек мой любимый! Анна обняла его не по уставу – по сердцу, вся прильнула к этой цветущей, юной плоти, к этой новой надежде своей, с падающей радостью в сердце ощутила его твердые руки (уже сейчас, верно, смог бы, откажи ей силы, на руках донести до покоя!). И этот запах свежести, юности от лица, губ, рук, волос, ото всего… Господи! Пошли мне не узрети никакого худа над отроком сим!
Внизу, на широком дворе, теснятся возы, и кони ржут, и весело гомонит дружина, и слуги носятся стремглав, разводят коней по коновязям и стойлам, задают корм, разводят гостей по клетям и повалушам. Сейчас баня, молебен, а потом пир. Радостно благовестят колокола, сверкает снег – солнце взошло над Тверью! И снова надежды, и гордые замыслы вновь, и скоро, уже очень скоро – весна!
Глава 37
Свечи в кованых серебряных стоянцах. Ордынская глазурь на столе. Ковры глушат шаги, заслонки окон задвинуты, муравленая печь пышет жаром. Свет свечей, колеблясь, отражается в кованом узорочье, в драгих окладах икон, резною тенью обводит лица бояр, великой княгини Анны и княжича Федора. На столе закуски, квасы и мед, но это не пир и не дума княжая. Скорее, тайный совет. Князя Константина здесь нет. Анна боится сына, даже не его самого, невестки, которой придется, ежели воротится Сашко, уезжать из Твери. О сю пору справлялась, держала. И сына держала: Константин знал, что должен уступить стол Сашку.