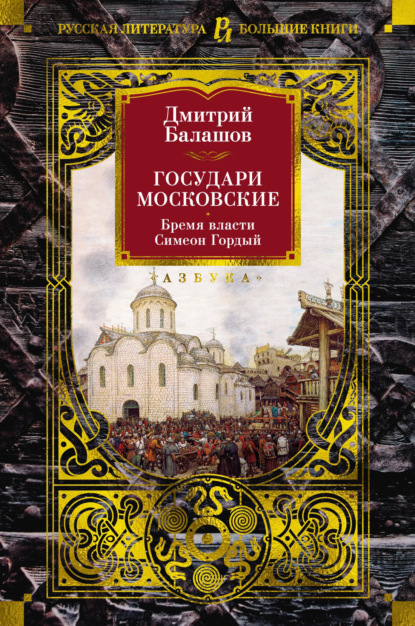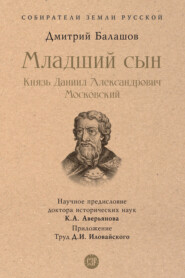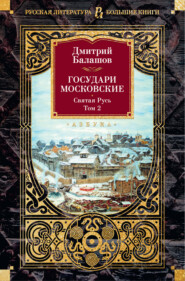По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Успеют ли к Ильину своды свести?!
– Должны поспеть, князь-батюшка! – прокричал в ответ, с отдышкою, Бяконт. – Народу ить что черна ворона! – И, решась (слуги замерли в отдалении, тоже признав великого князя), попенял: – Неподобно одному-то, княже, без догляду!
Иван остро обозрел старика, отмолвил, помедлив, с легким недовольством:
– Чать, у себя. Во своем городи. Дома!
Бяконт понял, что князь зело нерадошен и заботен излиха. Чем? Мастера трудились на совесть, грех было бы на что и пенять… Прошать? Дак надобно безо спросу понимать-то! Подумал, прикинул то и это, почти уже догадывая, щурясь от пыли, примолвил:
– Феогност-то! Не видит! Его бы заботою…
И – угадал. Князь глянул ярым зраком. Отрывисто рек:
– На Волыни! В Галиче, в Жараве ле!
– Не ладит в наше Залесье? – уже уверенней вопросил Бяконт, понявши заботу княжескую. Калита промолчал, кивнул.
– На тот год Спасову церкву класти и монастырь переводить в Кремник? – сказал-спросил боярин. – Нать бы быти митрополиту при сем!
– Не приедет – за благословением пошлю! – отмолвил Иван так же отрывисто.
– И к делу, батюшка! – покивал Бяконт. Подумал. Переждав нарочитый грохот и стоны окалываемого камня, подсказал: – А и ждать неча! На зиму Феогност, слышно, в Киев ладит, дак по осени и послать, как подстынут пути!
Калита посмотрел на этот раз в лицо Бяконту внимательно, и странная для великого князя беззащитность проглянула на миг в его взоре. Только на миг, но и того хватило Бяконту. Давним умудренным смыслом своим постиг он тотчас тайный страх своего князя и отмолвил мысленно, скорее даже себе самому, чем Калите: «Что ж! Конешно, не ровня наши храмы византийским, что и говорить! Да и володимирским тоже! Дак – время-то тяжко! Сколь на ордынского хана да на силу ратную серебра уходит, страсть! Должен Феогност нас с тобою понять, княже! В ину пору и малое – великое есть, коли с верою да с прилежанием любовным!»
– Ко мне ле? – спохватился Иван.
– К тебе, батюшка-князь, – отмолвил Бяконт, вновь наклоняя голову.
Иван бегло глянул на Бяконтовых холопов и поворотил к теремам. Старик поспешил следом, колыхаясь и придыхая. Слуги не смели при князе взять господина под руки. Иван, обогнавши было боярина, придержал шаг. Уважал старика. Да и надобен был Бяконт, зело надобен! Прежде самого князя сообразил дело-то!
Взошли в сени. Слуги бросились стремглав отряхивать метелками из тетеревиного пера платья, подносить воду в рукомоях, белые тонкие полотенца. Иван скинул верхний, посконный, зипун, ему подали домашний, шелковый. Прошли в верхний горничный покой. Здесь стонущие удары по камню звучали глуше, можно было говорить, почти не повышая голоса. Слуги внесли медовый квас, закуски, блюдо свежей земляники. Иван дождался, когда уйдет последний, подвинул блюдо боярину, сам рассеянно стал брать по ягодке и класть в рот.
– Кого пошлем?
– Тако дело думой решать надобно! – возразил Бяконт.
Иван кивнул нетерпеливо:
– Колготы б не было! Босоволковы, отец с сыном, чести себе потребуют!
Бяконт прищурился. Великий князь слегка недолюбливал Босоволковых, хоть и сила у них была большая.
– Алексей-от Петров молод ищо! – раздумчиво протянул он. – Филиппа? Василья Окатьева ежели?
– Твоего сына хочу послать! – строго перебил Иван.
– Феофану, княже, то честь великая! – отмолвил Бяконт, не сумев скрыть удовольствия в голосе. – Одначе и он молод, зазрить могут! Надо бы старшего кого ни то из маститых, из думцев, из нас, стариков…
– Протасия не пошлешь! – возразил князь. – А Василий Протасьич, опять же, молод службою! И Сорокоум занедужил… Разве уж самого Окатия?
Но Бяконт покрутил головой:
– Михайлу Терентьича достоит, княже! Ему уж много за полста лет перевалило, и роду высокого. Не зазрят! А уж мой-то Феофан пущай под началом у его походит! И та честь не мала: к митрополиту посыл!
Иван подумал, положил еще ягоду в рот, раздавил языком. Рот наполнился тонким и терпким лесным ароматом. Умен Бяконт! Покойный Терентий Мишинич служил по Переяславлю, у родителя-батюшки был в чести, а тут, на Москве, ни вражды, ни зависти ни в ком не поимел. По покойнику и сына уважают. И дело не ратное, посольское дело. И посольство-то особое, к митрополиту русскому, не в ину землю… Ни Протасий, ни Окатий, ни Родион Несторыч не зазрят… Умно решил Федор Бяконт! Умней не решишь! Сказал вслух:
– Быть посему! Ты, Федор, переже думы перемолви с боярами!
– Меня не учить, князь-батюшка! – возразил Бяконт. – Протасию сам скажешь, поди?
Иван опять кивнул молча. К старику тысяцкому следовало сходить самому.
Все же было горько: столько серебра, и сил, и труды великие, а Феогност и глаз не кажет! Сидит себе в Жараве… С Литвой, с Гедимином ся ликует. А ежели и останет тамо?! Что делать тогда, он не знал. Не мог ничего решить зараньше. И, вздохнув, уже отпуская Бяконта, обсудив с ним попутно и те дела, из коих старый боярин шел в терема княжеские, помыслил, попенял было Господу, что явно не спешил помочь своему рабу в непростых его княжеских трудах. Но, попеняв, тут же и укорил себя за дерзкий ропот противу вышней воли, понять которую смертному не дано никак. Быть может, и это ему, Ивану, крест и испытание за гордыню? Не волен смертный, даже и он, князь, указывать Всевышнему в путях его и помыслах горних! И токмо одно надлежит каждому: нести свой крест, не ослабевая в трудах.
– Не ослабевая в трудах! – сказал Иван вслух, себе самому, и повторил глуше: – Не ослабевая в трудах…
Митрополит русский должен быть здесь, на Москве, а никак не на Волыни и не в Литве Гедиминовой. И сего должен он добиваться, не ослабевая в трудах! Тяжкие, стонущие удары по камню отвечали ему.
Глава 11
Мишук сряжался в Киев. Катюха бегала зареванная. Дети прыгали и визжали на разные голоса. Тетка Просинья тоже добавляла шуму. Словом, в доме стоял дым коромыслом. Да и прямой был дым: печь чегой-то не налажалась – то ли дровы не подсохли вдосталь – кудрявый чад клубами ходил по хоромине.
Морщась, Мишук крутил башкой, поминая нелегким словом продавца избы и, с запоздалою завистью, дядину хоромину на Подоле, что продал когда-то большому боярину Окатию. Се лето с сенами не управили в срок, пото не поспел и печь переложить, а нать было, ох и нать было скласть печь погоднее!
Он недавно воротил домой, праздничный. Повестил было о великой чести, выпавшей ему: шутка ли, старшим поставили над обозом! И вот незадача! Катюха с первых же слов разревелась:
– Одну оставлять!
Мишук, отстегивая саблю и переболокаясь, остоялся даже:
– Кого ты ревешь-то?! Да батя мой по посольскому делу всюю жисть! Пото и в чести был у князей великих! А я все на дворе да на дворе, с конями да в стороже. Скоро и голову сединой обнесет! Так, што ль, из навоза и не вылезти?!
– Да! А куды я с дитям, да на всю зиму! Ни хоромина не готова, ни сенов не навожено! Яков твой токо на печи и сидит! Что с него толку! Да и печь вон…
В говорю встряла было тетка Просинья:
– Поезжай, поезжай! Бабью-то брехню не переслушашь!
– Брехню, да? Брехню, да? Я для тети Проси всю жисть собакой была! Собака и есь! Век за детьми да за скотом, из скотнюхи не вылажу, все с пузом, детей полон дом, а в церкву выйти не в чем! Знала бы, за кого шла…
Просинья, конечно, в долгу не осталась, начала припоминать все Катеринины протори и промашки: и портны белит не так, и квашню путем не замесит, и дитю летось не сберегла, и мужик у ей не обихожен…
От ору бабьего изба готова треснуть. Мишук, хлопнув дверью так, что едва ободверины не вылетели из гнезд, выбежал во двор, к коню. В сердцах не знал, за что и взяться. Катюха вылезла зареванная, пришла в хлев. Мишук не глядел, слышал лишь, как шмыгает носом. Подошла сзади, охватила полными руками, вжалась. Мишук еще поежился, но уже и оттаивал – жалко стало жонку, огладил большой рукой. Катя подлезла к нему под мышку, все еще хлюпая носом, стала ластиться; сперва пожалилась на тетку, что век не дает ей жить, потом почуяла, видно, что этим Мишука не проймешь (сама уж залезла к нему и под зипун, совсем оттянула от дела: пригрей да приласкай! Распалила не ко времени…), и вдруг вовсе незаботным, а любопытным голоском:
– Скажи, как створилось-то? Почто и выбрали тебя? А каково тамо, в Киеви? Жонки красивые, бают! Хучь гостинца-то не забудь, привези!
И всегда так: накричит, накудесит и – словно и не она – хохочет опять да дивует, словно девка… Не соскучишь с нею!
– Должны поспеть, князь-батюшка! – прокричал в ответ, с отдышкою, Бяконт. – Народу ить что черна ворона! – И, решась (слуги замерли в отдалении, тоже признав великого князя), попенял: – Неподобно одному-то, княже, без догляду!
Иван остро обозрел старика, отмолвил, помедлив, с легким недовольством:
– Чать, у себя. Во своем городи. Дома!
Бяконт понял, что князь зело нерадошен и заботен излиха. Чем? Мастера трудились на совесть, грех было бы на что и пенять… Прошать? Дак надобно безо спросу понимать-то! Подумал, прикинул то и это, почти уже догадывая, щурясь от пыли, примолвил:
– Феогност-то! Не видит! Его бы заботою…
И – угадал. Князь глянул ярым зраком. Отрывисто рек:
– На Волыни! В Галиче, в Жараве ле!
– Не ладит в наше Залесье? – уже уверенней вопросил Бяконт, понявши заботу княжескую. Калита промолчал, кивнул.
– На тот год Спасову церкву класти и монастырь переводить в Кремник? – сказал-спросил боярин. – Нать бы быти митрополиту при сем!
– Не приедет – за благословением пошлю! – отмолвил Иван так же отрывисто.
– И к делу, батюшка! – покивал Бяконт. Подумал. Переждав нарочитый грохот и стоны окалываемого камня, подсказал: – А и ждать неча! На зиму Феогност, слышно, в Киев ладит, дак по осени и послать, как подстынут пути!
Калита посмотрел на этот раз в лицо Бяконту внимательно, и странная для великого князя беззащитность проглянула на миг в его взоре. Только на миг, но и того хватило Бяконту. Давним умудренным смыслом своим постиг он тотчас тайный страх своего князя и отмолвил мысленно, скорее даже себе самому, чем Калите: «Что ж! Конешно, не ровня наши храмы византийским, что и говорить! Да и володимирским тоже! Дак – время-то тяжко! Сколь на ордынского хана да на силу ратную серебра уходит, страсть! Должен Феогност нас с тобою понять, княже! В ину пору и малое – великое есть, коли с верою да с прилежанием любовным!»
– Ко мне ле? – спохватился Иван.
– К тебе, батюшка-князь, – отмолвил Бяконт, вновь наклоняя голову.
Иван бегло глянул на Бяконтовых холопов и поворотил к теремам. Старик поспешил следом, колыхаясь и придыхая. Слуги не смели при князе взять господина под руки. Иван, обогнавши было боярина, придержал шаг. Уважал старика. Да и надобен был Бяконт, зело надобен! Прежде самого князя сообразил дело-то!
Взошли в сени. Слуги бросились стремглав отряхивать метелками из тетеревиного пера платья, подносить воду в рукомоях, белые тонкие полотенца. Иван скинул верхний, посконный, зипун, ему подали домашний, шелковый. Прошли в верхний горничный покой. Здесь стонущие удары по камню звучали глуше, можно было говорить, почти не повышая голоса. Слуги внесли медовый квас, закуски, блюдо свежей земляники. Иван дождался, когда уйдет последний, подвинул блюдо боярину, сам рассеянно стал брать по ягодке и класть в рот.
– Кого пошлем?
– Тако дело думой решать надобно! – возразил Бяконт.
Иван кивнул нетерпеливо:
– Колготы б не было! Босоволковы, отец с сыном, чести себе потребуют!
Бяконт прищурился. Великий князь слегка недолюбливал Босоволковых, хоть и сила у них была большая.
– Алексей-от Петров молод ищо! – раздумчиво протянул он. – Филиппа? Василья Окатьева ежели?
– Твоего сына хочу послать! – строго перебил Иван.
– Феофану, княже, то честь великая! – отмолвил Бяконт, не сумев скрыть удовольствия в голосе. – Одначе и он молод, зазрить могут! Надо бы старшего кого ни то из маститых, из думцев, из нас, стариков…
– Протасия не пошлешь! – возразил князь. – А Василий Протасьич, опять же, молод службою! И Сорокоум занедужил… Разве уж самого Окатия?
Но Бяконт покрутил головой:
– Михайлу Терентьича достоит, княже! Ему уж много за полста лет перевалило, и роду высокого. Не зазрят! А уж мой-то Феофан пущай под началом у его походит! И та честь не мала: к митрополиту посыл!
Иван подумал, положил еще ягоду в рот, раздавил языком. Рот наполнился тонким и терпким лесным ароматом. Умен Бяконт! Покойный Терентий Мишинич служил по Переяславлю, у родителя-батюшки был в чести, а тут, на Москве, ни вражды, ни зависти ни в ком не поимел. По покойнику и сына уважают. И дело не ратное, посольское дело. И посольство-то особое, к митрополиту русскому, не в ину землю… Ни Протасий, ни Окатий, ни Родион Несторыч не зазрят… Умно решил Федор Бяконт! Умней не решишь! Сказал вслух:
– Быть посему! Ты, Федор, переже думы перемолви с боярами!
– Меня не учить, князь-батюшка! – возразил Бяконт. – Протасию сам скажешь, поди?
Иван опять кивнул молча. К старику тысяцкому следовало сходить самому.
Все же было горько: столько серебра, и сил, и труды великие, а Феогност и глаз не кажет! Сидит себе в Жараве… С Литвой, с Гедимином ся ликует. А ежели и останет тамо?! Что делать тогда, он не знал. Не мог ничего решить зараньше. И, вздохнув, уже отпуская Бяконта, обсудив с ним попутно и те дела, из коих старый боярин шел в терема княжеские, помыслил, попенял было Господу, что явно не спешил помочь своему рабу в непростых его княжеских трудах. Но, попеняв, тут же и укорил себя за дерзкий ропот противу вышней воли, понять которую смертному не дано никак. Быть может, и это ему, Ивану, крест и испытание за гордыню? Не волен смертный, даже и он, князь, указывать Всевышнему в путях его и помыслах горних! И токмо одно надлежит каждому: нести свой крест, не ослабевая в трудах.
– Не ослабевая в трудах! – сказал Иван вслух, себе самому, и повторил глуше: – Не ослабевая в трудах…
Митрополит русский должен быть здесь, на Москве, а никак не на Волыни и не в Литве Гедиминовой. И сего должен он добиваться, не ослабевая в трудах! Тяжкие, стонущие удары по камню отвечали ему.
Глава 11
Мишук сряжался в Киев. Катюха бегала зареванная. Дети прыгали и визжали на разные голоса. Тетка Просинья тоже добавляла шуму. Словом, в доме стоял дым коромыслом. Да и прямой был дым: печь чегой-то не налажалась – то ли дровы не подсохли вдосталь – кудрявый чад клубами ходил по хоромине.
Морщась, Мишук крутил башкой, поминая нелегким словом продавца избы и, с запоздалою завистью, дядину хоромину на Подоле, что продал когда-то большому боярину Окатию. Се лето с сенами не управили в срок, пото не поспел и печь переложить, а нать было, ох и нать было скласть печь погоднее!
Он недавно воротил домой, праздничный. Повестил было о великой чести, выпавшей ему: шутка ли, старшим поставили над обозом! И вот незадача! Катюха с первых же слов разревелась:
– Одну оставлять!
Мишук, отстегивая саблю и переболокаясь, остоялся даже:
– Кого ты ревешь-то?! Да батя мой по посольскому делу всюю жисть! Пото и в чести был у князей великих! А я все на дворе да на дворе, с конями да в стороже. Скоро и голову сединой обнесет! Так, што ль, из навоза и не вылезти?!
– Да! А куды я с дитям, да на всю зиму! Ни хоромина не готова, ни сенов не навожено! Яков твой токо на печи и сидит! Что с него толку! Да и печь вон…
В говорю встряла было тетка Просинья:
– Поезжай, поезжай! Бабью-то брехню не переслушашь!
– Брехню, да? Брехню, да? Я для тети Проси всю жисть собакой была! Собака и есь! Век за детьми да за скотом, из скотнюхи не вылажу, все с пузом, детей полон дом, а в церкву выйти не в чем! Знала бы, за кого шла…
Просинья, конечно, в долгу не осталась, начала припоминать все Катеринины протори и промашки: и портны белит не так, и квашню путем не замесит, и дитю летось не сберегла, и мужик у ей не обихожен…
От ору бабьего изба готова треснуть. Мишук, хлопнув дверью так, что едва ободверины не вылетели из гнезд, выбежал во двор, к коню. В сердцах не знал, за что и взяться. Катюха вылезла зареванная, пришла в хлев. Мишук не глядел, слышал лишь, как шмыгает носом. Подошла сзади, охватила полными руками, вжалась. Мишук еще поежился, но уже и оттаивал – жалко стало жонку, огладил большой рукой. Катя подлезла к нему под мышку, все еще хлюпая носом, стала ластиться; сперва пожалилась на тетку, что век не дает ей жить, потом почуяла, видно, что этим Мишука не проймешь (сама уж залезла к нему и под зипун, совсем оттянула от дела: пригрей да приласкай! Распалила не ко времени…), и вдруг вовсе незаботным, а любопытным голоском:
– Скажи, как створилось-то? Почто и выбрали тебя? А каково тамо, в Киеви? Жонки красивые, бают! Хучь гостинца-то не забудь, привези!
И всегда так: накричит, накудесит и – словно и не она – хохочет опять да дивует, словно девка… Не соскучишь с нею!