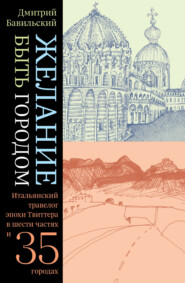По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красная точка
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На следующий день, когда Вася забирает Ленточку из садика, сердобольная нянечка Марья Ивановна, пока сестра прощается с детками и надевает колготки, берёт его под локоть, отводит в сторону.
– У вас дома всё хорошо?
Вася не понимает природу участия женщины в белом халате, вопросительно смотрит Марье Ивановне в глаза с просьбой об объяснении.
– Ленточка сегодня очень беспокойно себя вела. Во время сончаса металась и плакала во сне, проснулась в дурном расположении духа и, когда группа её собиралась на прогулку, запугивала наших подготовишек, что на улице всех их ждёт страшная и ужасная тысячеглазка, которую следует опасаться и от которой нужно всё время прятаться, отказывалась идти гулять, пряталась под кроватью и никуда не хотела идти.
Часть первая. Первый подъезд
Куйбышева, бывшая Просторная
Для того чтобы попытаться привести зрение в порядок, нужны постоянные упражнения на «мускулатуру хрусталика»: следует поочередно концентрировать взгляд на том, что вблизи, и том, что вдали. Десять минут в день. Именно поэтому на окно комнаты, называемой в семье «залом», лепится красноватый кружок.
Интересно, конечно, отчего для занятий по технике зрения Вася бессознательно выбрал именно западную (то есть во двор) сторону квартиры, а не восточную (без людей), выходящую на дорогу, отделяющую городскую застройку от небольшого одноэтажного посёлка, про который через пару лет мальчик напишет стихи:
Пыль сонных и пустых предместий,
Любой проехавшей машине,
Чья скука – города предвестье,
Слепой кивает куст малины…
Хорошо жить на окраине, будто бы вне регулярного расписания (школа не в счёт, так как она похожа на сон) и смотреть, как в палисаднике встаёт трава в человеческий рост, увенчанный пыльными бутонами отёчной мальвы, издали похожей на странницу в домотканом украинском костюме.
Слова народные
Васина мама одно время принялась обихаживать эти беспризорные заросли под окном их квартиры на первом этаже. Разбила клумбы, посадила цветы: непривередливые и ко всему готовые ноготки, годецию, анютины глазки, кустовые ромашки с кудрявыми оторочками, совсем уже беззащитные колокольчики, шершавые люпины, шафран, бархатцы и даже настурции, которые, впрочем, уже точно не выживали.
Первой в жизни народной песней, услышанной Васей от деда Савелия, было – «…а мы просо сеяли, сеяли…». Старика очень уж увлекала обрядовая часть песни, из-за чего каждый раз повторялась одна и та же мизансцена.
Дед начинал петь всегда спокойно и вдумчиво, сочувственно изображая партию созидателей и землепашцев, но после этого с не меньшим проникновением, а иной раз и вовсе впадая в раж, исполнял противоположную партию.
– А мы просо вытопчем, вытопчем, – выкрикивал он, всё более и более подпадая под власть демонов-разрушителей, наступая на невидимых противников и стараясь поднять ревматическое колено как можно выше. Чтобы если уж вытаптывать просо, то без какого бы то ни было остатка, без единого следа, до основанья, чтобы только «а затем» будто бы очнуться от морока и снова встать с другой стороны, начав с очередного нуля…
– А мы просо сеяли, сеяли…
Ну, и вновь затем переметнуться во враждебную стаю, дабы история продолжала бегать по замкнутому кругу, как это на наших широтах принято. Тем более что деда увлекала, кажется, именно разрушительная часть русской песни. Именно она позволяла ему вызвать чёртиков азарта, да и выплеснуть их наружу до донца. До слепого конца.
Онтология Параши
Чем больше мама разводила под окнами сельское хозяйство, тем сильнее привлекала к палисаднику внимание соседей. Жившая на третьем этаже подслеповатая баба Паша с бельмом на правом глазу, похожая на маринованный корнишон, кажется, и вовсе поселилась на лавочке, несмотря на ненастье.
Ни вреда, ни пользы окружающему миру баба Паша не несла (хотя однажды осенью Вася застал её за тем, как, зашмыгнув в подъезд, она тщательно вытирала калоши об их коврик – раз уж он на первом этаже постелен и как раз по пути лежит, то чего чужому добру пропадать?), но прослеживалась какая-то неочевидная закономерность между её флагманскими дежурствами у подъезда и степенью затоптанности цветника, разор которого, нараставший противоходом маминым инициативам, как бы она не билась, касался только окультуренных растений, но не самодостаточного самосева, брызжущего в разные стороны зелёной кровью. Словно бы лежала здесь, на бывшей Просторной, особая почва, ни за что не желающая окультуриваться и тем более служить людям.
Цветы ещё не выросли, а соседи и «родственники кролика» со всех пяти этажей первого подъезда, а также примкнувшие к ним соседи из ближайших подъездов и пятиэтажки напротив уже спешат будто бы насладится растительными ароматами и их эфирными маслами. Заводят встречи у низенького заборчика, подслеповато (слишком уж увлечены дворовыми сплетнями) топчутся в опасной близости у палисада.
Разговорчики в строю
– Как, вы действительно не знали, что Фанни Каплан умерла совсем недавно? На одном закрытом совещании лектор из ЦК рассказывал, что по просьбе Ленина, Владимира Ильича, её не расстреляли, но сохранили жизнь для того, чтобы она хоть одним глазком посмотрела, как люди будут жить при коммунизме и как сыр в масле без денег кататься…
– Не успели, значит, Капланиху на Анжелу Дэвис-то обменять – я так-то слышал, что её должны были в Штаты выслать, чтобы хоть какая-то польза от еврейки была…
– Путаете. И не на Анжелу Дэвис, которую, между прочим, давно освободили, газеты читать надо, а на Леонарда Пелтиера, ему как раз два жизненных срока впаяли.
– Да что вы, женщина? Я думала, что последним удачным разменом стало спасение товарища Лучо – нашего дорогого Луиса Корвалана, выкупили которого за очень огромные деньги, но тогда международная политическая конъюнктура позволяла это сделать, не то что теперь, из-за оголтелой гонки вооружений, будь она неладная.
– Ваша правда, сосед, за свободу товарища Лучо никаких денег не жалко. Только я всё никак изощрённой логики империализма понять не могу: два пожизненных срока – это как? После смерти он всё равно в тюрьме гнить остается, что ли?
– Именно. Вот тогда-то его останки на пепел Капланихи и обменяют, чтобы уже точно никому не повадно было.
Подставляя лицо солнцу, вечная баба Паша с готовностью и полным самопожертвованием солирует во всей этой кружковщине, то ли по праву хозяйки, то ли как домовой или же оберег. Как фамильное привидение первого подъезда.
Занятия по технике зрения
Вот и сейчас, стоя у окна, Вася видит: школьницы, живущие в нашем подъезде, с их тщательно убранными причёсками (прирученные чёлки, прикрученные банты, похожие на антенны или бутоны всё той же мальвы), в строгой форме (белые кружевные передники надеты поверх чёрных платьев с длинными рукавами, повязаны тщательно выглаженные пионерские галстуки), сгрудив ранцы посредине своей живописной кучки, щебечут о чём-то волшебном. Им всегда есть о чём говорить, откуда темы берутся? И от подъезда никак не отойдут, точно окривевшая баба Паша, круглосуточно принимающая воздушные ванны, – тайный магнит; всё по домам, по квартирам, не разойдутся, словно бы важнее всего сейчас – срочно решить наиглавнейшие дела. Спасти мир. Значит, это уже не осень, но, скорее всего, поздняя весна, и последние каникулы были весенними, самыми близкими к лету.
Вася видит, как школьницы задирают лица на фасад: это значит, что на балкон второго этажа вышла Руфина Дмитриевна Тургояк и монументально, словно бы с трибуны мавзолея, кричит дочке на всю округу:
– Маруся, я сварила гречневую кашу, когда поднимешься домой, оберни её одеялом – вечером вернусь, поедим.
Теперь все соседи оповещены: семейство Тургояк каждый день ест не абы что, но остродефицитную гречку. Рассыпчатую, полезную, насыщенную микроэлементами, долго доходящую под ватным одеялом. Могут себе позволить такое роскошество!
Тщета материи
На асфальте, параллельном дому, на аккуратном расстоянии друг от друга, раскиданы гвоздики со сломанными стеблями – значит, времени сейчас примерно три часа: хоронить-то начинают строго в 14.00, когда гроб выносят, городу и миру, из подъезда, где его уже ждёт нетвердый духовой оркестр с безальтернативным Шопеном, подвывающим в трубах.
Обычно такая процессия, молча шаркая ногами, идёт к концу дома, туда, где прощающихся на пустыре уже ждут ритуальные автобусы и открытый грузовик, предназначенный для самых близких. Тщета постоянно расползающейся материи поджидает советских людей не только в повседневности, но и в крайних, экстремальных точках жизни – достаточно сесть в такой пустой автобус или попасть в приёмный покой районной больницы, чтобы ощутить на себе настойчивое зудение пустоты – им в поликлиниках или на кладбищах заражены все предметы и даже воздух, задумчиво покусывающий ещё пока живых сзади за шею.
Нет, то не клопы, на которых списываются многие бытовые неудобства, но ужас уже самой этой материи, составлявший советскую жизнь, постоянно испытываемой на прочность. Упираясь в мусорные баки на пустыре, похоронная процессия мгновенно распадается, обращаясь в пресный хаос, наблюдать который неинтересно.
Все степенно грузятся и уезжают на кладбище, оставляя на асфальте единственное напоминание о чужом горе – цветы, раскиданные главной распорядительницей. Она скорбно идёт впереди гроба с огромным траурным букетом в руках, отщипывая от него по стеблю с гордым видом, свойственным человеку при исполнении или же высоколобой женщине с плаката военного времени, как проклятьем заклеймённой чёрным платком вечного вдовства.
Человек, несведущий в советских обрядах, мог бы решить, что надломленные стебли под ногами – символ попранной жизни. Так оно, вероятно, и есть, хотя, честно говоря, стебель гвоздикам ломают из сугубой прагматики – дабы лихие пропойцы, ни стыда у них, ни совести и ничего святого, не смогли собрать разбросанные цветы, чтобы толкнуть их за бутылку возле павильона «Пиво – воды».
Вася знает, что смотреть на похороны через окно нельзя – плохая примета (однажды, примерно так же, засмотрелся через окно на хлопотливых людей в чёрном, играющих странный спектакль, и не заметил, как мамина пилочка для ногтей, которую вертел в руках, внезапно впилась самым остриём в нёбо), поэтому пока процессия идёт мимо дома, он на красную точку не смотрит, отходит от подоконника, ждёт.
Сквозь новые очки
Успевает, правда, выхватить пару деталей. Например, особое волнение бабы Паши – чужие похороны действуют на неё опьяняюще. И как внезапное бесплатное развлечение, меняющее ход дня, и как чужая беда, краем незримого крыла касающаяся всех. И как источник собственных сильных эмоций, ведь старухи, кажется, обязаны быть помешанными на предвкушении собственного ухода. Баба Паша покачивается от накатившего возбуждения, единственный глаз её налит вниманием, а губы пунцовы, точно Параша только что целовалась с кем-то взасос или же на время превратилась в вампиршу.
Геликоны приглушённо надрываются из-за ещё не выставленных вторых рам. Васе уже выписали первые в жизни очки под названием «Пети» (кажется, венгерские) – узкие, продолговатые, превращающие его в Знайку. Их он старается не носить, снимает при первой возможности (глаза напрягаются, устают, да и не хочется клички Очкарик), а в свободную минуту Вася идёт к окну, подобно автомашине, меняет ближнее освещение на дальнее.
Двор вновь пуст. Только соседки торчат у подъезда. Форточка закрыта, девичьих голосов не слышно, из-за чего кажется, будто все они движутся в немного замедленной съёмке – изображение слегка подвисает, отставая от интерпретации, и тогда бабы-Пашины кулачки начинают двигаться синхронно Васиному морганию: как если старушка находится в другой временной плотности, точнее, бесплотности, отдельно от девчат. В беспилотном пустом пузыре, лишённом воздуха, из-за чего движения соседки видны особенно чётко. Даже без очков.
В рапиде
К тому же девочки, одноклассницы Маруся Тургояк со второго этажа и Лена Пушкарёва с пятого, более юные Янка с четвёртого и Лена Соркина со второго (впрочем, разница в возрасте при личном общении у женщин, как Вася заметил, почти всегда отсутствует), а также немые близняшки Зайцевы, постоянно как бы перетекают друг в друга. Соседки по подъезду не разговаривают, но точно ведут хороводы, а бабулька в платке под цвет своего бельма, одной корнишонной рукой опирающаяся на клюку, совершенно одна, ей не в кого перетекать.
Похоронной процессии давно нет, но в воздухе двора словно бы витает окись геликонов и аромат тлена, а во рту у Васи каждый раз, когда он слышит этот марш Шопена, возникает умозрительный пепел или же пыль, похожая на золу, будто горелая. Именно такой вкус, вероятно, сопровождал варварские жертвоприношения – накануне Вася читал «Легенды и мифы Древней Греции»: люди Эллады буквально на каждой странице и шагу не могли ступить без костров, на которых сжигали безответных животных. Их обугленные кости горчили и по ночам кровоточили в Васиных снах, а звуки Шопена, даже окончательно истлев в весенней беспредельности, вызывают тошноту, напоминающую запах, созданный на основе экстракта коммунистических тубероз.
Выводок мальвы кивает ветру. Вася молча стоит у окна, колупает пальцем подоконник и отчётливо видит, хотя пока ещё не понимает, что девочки да – это то, что совсем нестабильно, постоянно колышется и стремится куда-то затечь, ведь даже баба Паша тянет к школьницам сухие ручонки, для того чтобы влиться во что-то ещё, помимо себя, обязательно прислониться к тому, что сильнее и твёрже, устойчивее и спокойней.
– У вас дома всё хорошо?
Вася не понимает природу участия женщины в белом халате, вопросительно смотрит Марье Ивановне в глаза с просьбой об объяснении.
– Ленточка сегодня очень беспокойно себя вела. Во время сончаса металась и плакала во сне, проснулась в дурном расположении духа и, когда группа её собиралась на прогулку, запугивала наших подготовишек, что на улице всех их ждёт страшная и ужасная тысячеглазка, которую следует опасаться и от которой нужно всё время прятаться, отказывалась идти гулять, пряталась под кроватью и никуда не хотела идти.
Часть первая. Первый подъезд
Куйбышева, бывшая Просторная
Для того чтобы попытаться привести зрение в порядок, нужны постоянные упражнения на «мускулатуру хрусталика»: следует поочередно концентрировать взгляд на том, что вблизи, и том, что вдали. Десять минут в день. Именно поэтому на окно комнаты, называемой в семье «залом», лепится красноватый кружок.
Интересно, конечно, отчего для занятий по технике зрения Вася бессознательно выбрал именно западную (то есть во двор) сторону квартиры, а не восточную (без людей), выходящую на дорогу, отделяющую городскую застройку от небольшого одноэтажного посёлка, про который через пару лет мальчик напишет стихи:
Пыль сонных и пустых предместий,
Любой проехавшей машине,
Чья скука – города предвестье,
Слепой кивает куст малины…
Хорошо жить на окраине, будто бы вне регулярного расписания (школа не в счёт, так как она похожа на сон) и смотреть, как в палисаднике встаёт трава в человеческий рост, увенчанный пыльными бутонами отёчной мальвы, издали похожей на странницу в домотканом украинском костюме.
Слова народные
Васина мама одно время принялась обихаживать эти беспризорные заросли под окном их квартиры на первом этаже. Разбила клумбы, посадила цветы: непривередливые и ко всему готовые ноготки, годецию, анютины глазки, кустовые ромашки с кудрявыми оторочками, совсем уже беззащитные колокольчики, шершавые люпины, шафран, бархатцы и даже настурции, которые, впрочем, уже точно не выживали.
Первой в жизни народной песней, услышанной Васей от деда Савелия, было – «…а мы просо сеяли, сеяли…». Старика очень уж увлекала обрядовая часть песни, из-за чего каждый раз повторялась одна и та же мизансцена.
Дед начинал петь всегда спокойно и вдумчиво, сочувственно изображая партию созидателей и землепашцев, но после этого с не меньшим проникновением, а иной раз и вовсе впадая в раж, исполнял противоположную партию.
– А мы просо вытопчем, вытопчем, – выкрикивал он, всё более и более подпадая под власть демонов-разрушителей, наступая на невидимых противников и стараясь поднять ревматическое колено как можно выше. Чтобы если уж вытаптывать просо, то без какого бы то ни было остатка, без единого следа, до основанья, чтобы только «а затем» будто бы очнуться от морока и снова встать с другой стороны, начав с очередного нуля…
– А мы просо сеяли, сеяли…
Ну, и вновь затем переметнуться во враждебную стаю, дабы история продолжала бегать по замкнутому кругу, как это на наших широтах принято. Тем более что деда увлекала, кажется, именно разрушительная часть русской песни. Именно она позволяла ему вызвать чёртиков азарта, да и выплеснуть их наружу до донца. До слепого конца.
Онтология Параши
Чем больше мама разводила под окнами сельское хозяйство, тем сильнее привлекала к палисаднику внимание соседей. Жившая на третьем этаже подслеповатая баба Паша с бельмом на правом глазу, похожая на маринованный корнишон, кажется, и вовсе поселилась на лавочке, несмотря на ненастье.
Ни вреда, ни пользы окружающему миру баба Паша не несла (хотя однажды осенью Вася застал её за тем, как, зашмыгнув в подъезд, она тщательно вытирала калоши об их коврик – раз уж он на первом этаже постелен и как раз по пути лежит, то чего чужому добру пропадать?), но прослеживалась какая-то неочевидная закономерность между её флагманскими дежурствами у подъезда и степенью затоптанности цветника, разор которого, нараставший противоходом маминым инициативам, как бы она не билась, касался только окультуренных растений, но не самодостаточного самосева, брызжущего в разные стороны зелёной кровью. Словно бы лежала здесь, на бывшей Просторной, особая почва, ни за что не желающая окультуриваться и тем более служить людям.
Цветы ещё не выросли, а соседи и «родственники кролика» со всех пяти этажей первого подъезда, а также примкнувшие к ним соседи из ближайших подъездов и пятиэтажки напротив уже спешат будто бы насладится растительными ароматами и их эфирными маслами. Заводят встречи у низенького заборчика, подслеповато (слишком уж увлечены дворовыми сплетнями) топчутся в опасной близости у палисада.
Разговорчики в строю
– Как, вы действительно не знали, что Фанни Каплан умерла совсем недавно? На одном закрытом совещании лектор из ЦК рассказывал, что по просьбе Ленина, Владимира Ильича, её не расстреляли, но сохранили жизнь для того, чтобы она хоть одним глазком посмотрела, как люди будут жить при коммунизме и как сыр в масле без денег кататься…
– Не успели, значит, Капланиху на Анжелу Дэвис-то обменять – я так-то слышал, что её должны были в Штаты выслать, чтобы хоть какая-то польза от еврейки была…
– Путаете. И не на Анжелу Дэвис, которую, между прочим, давно освободили, газеты читать надо, а на Леонарда Пелтиера, ему как раз два жизненных срока впаяли.
– Да что вы, женщина? Я думала, что последним удачным разменом стало спасение товарища Лучо – нашего дорогого Луиса Корвалана, выкупили которого за очень огромные деньги, но тогда международная политическая конъюнктура позволяла это сделать, не то что теперь, из-за оголтелой гонки вооружений, будь она неладная.
– Ваша правда, сосед, за свободу товарища Лучо никаких денег не жалко. Только я всё никак изощрённой логики империализма понять не могу: два пожизненных срока – это как? После смерти он всё равно в тюрьме гнить остается, что ли?
– Именно. Вот тогда-то его останки на пепел Капланихи и обменяют, чтобы уже точно никому не повадно было.
Подставляя лицо солнцу, вечная баба Паша с готовностью и полным самопожертвованием солирует во всей этой кружковщине, то ли по праву хозяйки, то ли как домовой или же оберег. Как фамильное привидение первого подъезда.
Занятия по технике зрения
Вот и сейчас, стоя у окна, Вася видит: школьницы, живущие в нашем подъезде, с их тщательно убранными причёсками (прирученные чёлки, прикрученные банты, похожие на антенны или бутоны всё той же мальвы), в строгой форме (белые кружевные передники надеты поверх чёрных платьев с длинными рукавами, повязаны тщательно выглаженные пионерские галстуки), сгрудив ранцы посредине своей живописной кучки, щебечут о чём-то волшебном. Им всегда есть о чём говорить, откуда темы берутся? И от подъезда никак не отойдут, точно окривевшая баба Паша, круглосуточно принимающая воздушные ванны, – тайный магнит; всё по домам, по квартирам, не разойдутся, словно бы важнее всего сейчас – срочно решить наиглавнейшие дела. Спасти мир. Значит, это уже не осень, но, скорее всего, поздняя весна, и последние каникулы были весенними, самыми близкими к лету.
Вася видит, как школьницы задирают лица на фасад: это значит, что на балкон второго этажа вышла Руфина Дмитриевна Тургояк и монументально, словно бы с трибуны мавзолея, кричит дочке на всю округу:
– Маруся, я сварила гречневую кашу, когда поднимешься домой, оберни её одеялом – вечером вернусь, поедим.
Теперь все соседи оповещены: семейство Тургояк каждый день ест не абы что, но остродефицитную гречку. Рассыпчатую, полезную, насыщенную микроэлементами, долго доходящую под ватным одеялом. Могут себе позволить такое роскошество!
Тщета материи
На асфальте, параллельном дому, на аккуратном расстоянии друг от друга, раскиданы гвоздики со сломанными стеблями – значит, времени сейчас примерно три часа: хоронить-то начинают строго в 14.00, когда гроб выносят, городу и миру, из подъезда, где его уже ждёт нетвердый духовой оркестр с безальтернативным Шопеном, подвывающим в трубах.
Обычно такая процессия, молча шаркая ногами, идёт к концу дома, туда, где прощающихся на пустыре уже ждут ритуальные автобусы и открытый грузовик, предназначенный для самых близких. Тщета постоянно расползающейся материи поджидает советских людей не только в повседневности, но и в крайних, экстремальных точках жизни – достаточно сесть в такой пустой автобус или попасть в приёмный покой районной больницы, чтобы ощутить на себе настойчивое зудение пустоты – им в поликлиниках или на кладбищах заражены все предметы и даже воздух, задумчиво покусывающий ещё пока живых сзади за шею.
Нет, то не клопы, на которых списываются многие бытовые неудобства, но ужас уже самой этой материи, составлявший советскую жизнь, постоянно испытываемой на прочность. Упираясь в мусорные баки на пустыре, похоронная процессия мгновенно распадается, обращаясь в пресный хаос, наблюдать который неинтересно.
Все степенно грузятся и уезжают на кладбище, оставляя на асфальте единственное напоминание о чужом горе – цветы, раскиданные главной распорядительницей. Она скорбно идёт впереди гроба с огромным траурным букетом в руках, отщипывая от него по стеблю с гордым видом, свойственным человеку при исполнении или же высоколобой женщине с плаката военного времени, как проклятьем заклеймённой чёрным платком вечного вдовства.
Человек, несведущий в советских обрядах, мог бы решить, что надломленные стебли под ногами – символ попранной жизни. Так оно, вероятно, и есть, хотя, честно говоря, стебель гвоздикам ломают из сугубой прагматики – дабы лихие пропойцы, ни стыда у них, ни совести и ничего святого, не смогли собрать разбросанные цветы, чтобы толкнуть их за бутылку возле павильона «Пиво – воды».
Вася знает, что смотреть на похороны через окно нельзя – плохая примета (однажды, примерно так же, засмотрелся через окно на хлопотливых людей в чёрном, играющих странный спектакль, и не заметил, как мамина пилочка для ногтей, которую вертел в руках, внезапно впилась самым остриём в нёбо), поэтому пока процессия идёт мимо дома, он на красную точку не смотрит, отходит от подоконника, ждёт.
Сквозь новые очки
Успевает, правда, выхватить пару деталей. Например, особое волнение бабы Паши – чужие похороны действуют на неё опьяняюще. И как внезапное бесплатное развлечение, меняющее ход дня, и как чужая беда, краем незримого крыла касающаяся всех. И как источник собственных сильных эмоций, ведь старухи, кажется, обязаны быть помешанными на предвкушении собственного ухода. Баба Паша покачивается от накатившего возбуждения, единственный глаз её налит вниманием, а губы пунцовы, точно Параша только что целовалась с кем-то взасос или же на время превратилась в вампиршу.
Геликоны приглушённо надрываются из-за ещё не выставленных вторых рам. Васе уже выписали первые в жизни очки под названием «Пети» (кажется, венгерские) – узкие, продолговатые, превращающие его в Знайку. Их он старается не носить, снимает при первой возможности (глаза напрягаются, устают, да и не хочется клички Очкарик), а в свободную минуту Вася идёт к окну, подобно автомашине, меняет ближнее освещение на дальнее.
Двор вновь пуст. Только соседки торчат у подъезда. Форточка закрыта, девичьих голосов не слышно, из-за чего кажется, будто все они движутся в немного замедленной съёмке – изображение слегка подвисает, отставая от интерпретации, и тогда бабы-Пашины кулачки начинают двигаться синхронно Васиному морганию: как если старушка находится в другой временной плотности, точнее, бесплотности, отдельно от девчат. В беспилотном пустом пузыре, лишённом воздуха, из-за чего движения соседки видны особенно чётко. Даже без очков.
В рапиде
К тому же девочки, одноклассницы Маруся Тургояк со второго этажа и Лена Пушкарёва с пятого, более юные Янка с четвёртого и Лена Соркина со второго (впрочем, разница в возрасте при личном общении у женщин, как Вася заметил, почти всегда отсутствует), а также немые близняшки Зайцевы, постоянно как бы перетекают друг в друга. Соседки по подъезду не разговаривают, но точно ведут хороводы, а бабулька в платке под цвет своего бельма, одной корнишонной рукой опирающаяся на клюку, совершенно одна, ей не в кого перетекать.
Похоронной процессии давно нет, но в воздухе двора словно бы витает окись геликонов и аромат тлена, а во рту у Васи каждый раз, когда он слышит этот марш Шопена, возникает умозрительный пепел или же пыль, похожая на золу, будто горелая. Именно такой вкус, вероятно, сопровождал варварские жертвоприношения – накануне Вася читал «Легенды и мифы Древней Греции»: люди Эллады буквально на каждой странице и шагу не могли ступить без костров, на которых сжигали безответных животных. Их обугленные кости горчили и по ночам кровоточили в Васиных снах, а звуки Шопена, даже окончательно истлев в весенней беспредельности, вызывают тошноту, напоминающую запах, созданный на основе экстракта коммунистических тубероз.
Выводок мальвы кивает ветру. Вася молча стоит у окна, колупает пальцем подоконник и отчётливо видит, хотя пока ещё не понимает, что девочки да – это то, что совсем нестабильно, постоянно колышется и стремится куда-то затечь, ведь даже баба Паша тянет к школьницам сухие ручонки, для того чтобы влиться во что-то ещё, помимо себя, обязательно прислониться к тому, что сильнее и твёрже, устойчивее и спокойней.