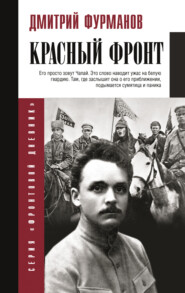По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Талка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет исхода нужде! Больше не можем так жить! Лучше разом сдохнуть с голоду, чем доживать в нищете!
– Хлеба, хлеба! Работы и хлеба!
И в острую голодуху, в неисходную нужду большевики вгоняли стальные клинья.
– Товарищи, голод – голодом, нищета – нищетой, надо бороться за надбавку оклада, за восьмичасовой день, но это не все… Не все это, товарищи! Выходя на забастовку, обрекая себя на долгие, может быть, страдания, мы заявляем сразу обо всем, что думаем, чего добиваемся, за что боролись и станем бороться до конца: учредительное собрание! Свобода слова! Свобода собраний! Печати!.. Без этого некрепки, недостаточны все наши завоевания, сегодня мы отвоевали, а назавтра отымут вновь… Так ли, товарищи?..
И теперь крепким, насыщенным гудом изнывала толпа, но еще густы темные тучи, велик еще страх перед тем, что стоит веками, – рабочая рать только пробуждалась в те дни на борьбу с царизмом.
Один за другим, друг дружку сменяя, повторяя, выплескивая гнев свой и горе, призывая на борьбу, выступали рабочие.
А в открытые окна управы свешивались на мясистых масленых шеях брюхатые головы, поблескивали жалко и кичливо позументы чиновничьих сюртуков, улыбались сахарно чьи-то подобострастные острые мордочки – управа наблюдала, управа была оживлена необычным зрелищем, управа всерьез борьбу не принимала, не хотела верить, что это начало настоящему гигантскому делу. Когда на площади прозвучали набатные речи, когда потребовали хозяев к ответу, – они по-мышиному спрятались в норы, высылали своих ищеек и дебелых цепных псов. Те улыбчиво и радушно, как истые друзья рабочих, уверяли маслено и пряно:
– Товарищи рабочие! Вы собрались сюда, чтобы добиться законных своих требований. Но криком и скопом никогда ничего не добьешься. Вам необходимо разойтись, разбиться по группкам, – пусть каждая группка идет к себе на фабрику и там договаривается со своей администрацией, – так или нет, товарищи?
Один только миг тихо-тихо промолчала толпа. Казалось, она обдумывает. Но вдруг взвилось негодующее слово:
– Никаких группок – говори со всеми. Рабочие разбиваться по фабрикам не станут. Нужда у всех одна – со всеми надо и разговор вести!
– Но так же удобнее…
– Кому удобнее?
– Так удобнее для обеих сторон, – вкрадывается маслено-мягкий голосок.
И бухает кувалдой рабочее слово:
– Никаких отдельных выступлений, никаких разговоров – так и передайте. Рабочие изберут своих представителей – говорить можно только с ними, а через них – со всеми рабочими – разом…
Уплетались, как кнутом отхлестанные псы, к себе, в управу.
– Мы завтра, товарищи, вновь соберемся сюда, к управе, а пока – айда на Талку!
– На Талку, на Талку, на Талку!
Разбуженным зверем заворочалась площадь, раздвинулись улицы, разомкнулись переулки – как волны в половодье, запрудили блузные валы. В те исторические дни на Талке совершилось великое дело: каждая фабрика выбрала своих представителей, те представители образовали первый в России совет рабочих депутатов.
Совет выработал требования рабочих. Совет предъявил их фабрикантам. Все переговоры фабриканты отныне вели только с советом. Совет был в то время рабочим правительством.
Был председателем раклист Авенир Ноздрин, секретарем выставили большевика Грачева. Был в совете – Отец – Федор Афанасьев, был его лучший соратник – Семен Балашов, Федор Самойлов, Николай Жиделев, что ходил то и дело на разговоры с фабрикантами, с управляющими, директорами; были Марта Сармантова, Евлампий Дунаев – было всего в совете сто десять человек.
Рабочие наказали своему совету:
– Будь у нас головой в борьбе. Слушать станем только тебя. Действовать станем только по твоему приказу. Смотри зорко, чтобы не рассыпалась наша рать, чтобы действовали фабрики дружно, чтобы ни одна не вступала в разговор со врагом одиночкой.
Совет мужественной, надежной рукой повел на приступ стачечные полки.
– Мы избрали своих делегатов, – утром говорили на площади. – Делегаты предъявили фабрикантам требования. Мы свое дело сделали. Ответ теперь не за нами…
И снова речи. Снова призывы к борьбе – корявые, обжигающие слова:
– Лучше всего за нас скажет сама нужда – нам ни свидетелей не надо, ни адвокатов. Велика нужда, но мы же не разбойники – чего эти торгаши с перепугу закрыли свои лавки, чего дрожите, окаянные?
Кругом на лавках, по торговым рядам на схлопнутых дверях чернели пудовые замки.
– Мы голодны, но не грабители мы, не тронем, не бойтесь…
По площади прогудело гордое сочувствие. Торгаши суетились у запоров, открывали витрины и двери. Площадь улыбалась, довольная.
– Сколько нам времени вести борьбу, того никто не знает, – снова говорил перед управой кто-то от партийного комитета. – Может, очень долго, товарищи. А ежели долго – значит, и трудно. Надо видеть вперед. Надо знать, что нужда может ухватить клещами. От имени комитета предлагаю теперь же выбрать пятнадцать человек, пусть они собирают гроши наши в фонд забастовки, – надо али нет, товарищи?
– Как же не надо? Знамо, надо! – тысячи криков скрепили предложение. И пятнадцать избранников – с шапками, с кепками – пошло по рядам. Кидали рабочие просаленные семитки, бережно отыскивали монетки, глухо завязанные в узелочки платков. Проходили сборщики и по торговым рядам. Кидали в шапку торгаши, приговаривали:
– Целковый отдашь, только бы кончили, сатаны, заваруху дьяволову.
Когда воротились, вытряхнули шапки – насчитали полтыщи рублей. Эх, какой капиталище на полсотни тысяч забастовщиков! Забастовочный фонд был создан, он хоть крохами, но все эти трудные недели и месяцы кормил голодную массу. Деньги в подмогу приходили и из Москвы.
Пока собирали, пока ходили шапочники, выступала Марта Сармантова – она работала на Бакулинской вместе с Дунаевым.
На ящик, на бочку ли – взгромоздилась голиафского росту женщина: тонкая, как жердь, высоченная, как осина. Впала тощая, высохшая грудь у Марты; как нос покойничий, заострились высокие плечи, и оттого она казалась еще выше. Как ветряная мельница машет в бурю тонкими лопастями, вдруг замахала Марта Сармантова длиннущими руками над толпой и голосом острым, как точеное лезвие, полоснула площадь:
– Товарищи! Дайте слово сказать!
Как увидели ее – ветряную мельницу – весело заржали ближние, клекотом раскатили по рядам:
– Марта! Глянь-ка, Мартушка-то Сармантова!
– Она и есть – во баба!
– Я, ребяты, – сказала Марта громко, – я всю жизнь свою то и знала, что ютилась по углам. Этака бабища, да по углам – у-ух, тесно!.. То-то и вольно мне тут, на ящике, – маши, что хочешь, за угол, не бойсь, не завезешь. Первый раз без сгибу говорю…
Вся площадь сочувственной радостью подхрапывала словам Сармантовой. Она подхватила смешки, усмехнулась сама просторной улыбкой, говорила дальше:
– И вошла я здесь, товарищи, сказать вам про одно – про бабу-работницу, про горестное наше положенье, – как есть у всех мы на последнем счету. Что такое баба, коли нет правов и мужику, – ноль совершенный и пустой. Какую мы замечаем радость в жизни женской? Да совсем никакую, а жмут ее, бабу, со всех сторон, и труд свой она повсегда отдает дешевле, чем мужик, потому как баба почитается глупый человек. И притом – неумелый. То-то неумелый, а ты сперва обучи, тогда и спрашивай. Вся жизнь проходит, как онуча в навозе гниет. Утресь беги по свистку, весь день голова как чужая, а в дому пришла – запрягайся до ночи в хомут, клещи-полощи, детей тащи, а где их, силы-то, возьмешь, когда по корпусу их осыпала. Эти, што ль, подмогут?
И всем диковинным корпусом перевернулась она на управу, вскинула страдальческие руки и другим голосом – расстановочно, с жутью прибавила:
– Этим што баба, што сука – один разговор. Таких кобелей словом не проскоблишь – с ними в дело надо браться. Товарки! Бабы! Ткачихи! Ладно хлопать ушами – и нам надо дело делать, неча зевать, то-то…
Марта Сармантова переступила на землю, а толпа восторженно ревела ей вслед. С того дня особо запомнили и особо полюбили Марту Сармантову.
Выступали потом на площади всяк со своим горем: приходили каменщики, плотники – жаловались на подрядчиков-живоглотов, говорили про авансы, про удавную петлю, в которую захлестывал хозяин, говорили про каторжную работу и грошовый заработок; выступали сапожники, били в грудь себя смоляными кулаками, плакали над пьяным своим понедельником, поясняли горестную жизнь.
– Каждый понедельник вдрызг сапожник пьян. Хорошо, пьян. А почему он пьян, от радости? Да с того же все горя разнесчастного… С той же все жизни серой, словно дратва сапожная… Не то запьешь – в веревку полезешь…
Говорили кухарки, господские прислуги, оповещали, как измываются над ними капризные барыни, держат ночь и день на цепи…
Стояли и слушали. Стояли и думали: