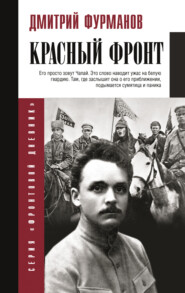По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мятеж
Год написания книги
1924
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Теперь возьмут еще человек пяток – десяток: в штадиве ничего не останется…
– И что только будет тогда…
– Да уж, без удержу…
– А удрать тут некуда?
Такой вели меж собой мы разговор.
Приподнимались по стене, ползали по грязному полу, обшаривали каморку…
– Можно всего ожидать…
– Конечно… от такой шпаны…
– Тш-ш-ш… тут у них, может, шпики сидят…
– Да, потише, ребята, – вишь, кто-то заглядывает в окно…
К решетчатому окну подошли несколько человек красноармейцев и заглянули, но вряд ли что им было видно в казематном полумраке. И с этих пор, как заглянули двое, уже все время подходили новые и тоже заглядывали – один другому, слышно, сообщал:
– Попались главари-то… сидят…
И, позванивая оружием снаружи, приникли к решетке, силились нас рассмотреть, перешучивались, отмачивали словечки, иные слали проклятья, угрожали, обещая недоброе.
Сидим мы, вполголоса поговариваем. О чем тут говорить, в такие минуты? Положенье наше яснее ясного: в лапах у мятежников, в казематке, тронуться некуда, говорить не с кем, просить нечего и не у кого – мы тут совершенно беспомощны. И самое большое, что сможем сделать, – это умереть как следует, если уж к тому ведет дело.
Признаться, мы все ждали худого конца. И как его было не ждать? Если уж так легко сорвали митинг и не возобновили его, если уж так легко взяли нас и посадили, – отчего ж и не кончить нас столь же легко. Мы всецело у них в руках. Мы – да еще десяток в штадиве – единственное им препятствие на пути к становлению своей власти… В чем же дело? Отчего не предположить что нас выведут и расстреляют. Разве сами мы, подняв восстание, где-нибудь в белогвардейском стане и захватив белую головку, не можем вгорячах «послать ее в штаб Духонина»? Конечно, можем. А тут еще такая необузданно дикая толпа. И никаких принципов. Никакого, по существу, руководства. Отчего не предположить? И мы ждали. Сам собою угас, прекратился разговор. Наши соседи тоже притихли – верно, думали о том же, что и мы, того же ждали… В каморке мертвая тишь. Чернел, сгущался полумрак. Я придвинулся к окошку, снял сапоги, протянулся, примостился и, по привычке, вытащил клочок бумаги, вкривь и вкось начал записывать свои мысли в столь необычном состоянии. Я не видел строк, писал наугад. Но хотелось записать именно теперь, в самый этот редкостный момент жизни…
Так прошло часа два… Вдруг за дверью, в коридоре какая-то возня. Слышно, как быстро подошли к нашей каморке несколько человек и о чем-то заговорили со стражей, – нас оберегали двое с винтовками, стоявшие за дверью. Не то спрашивали, не то уговаривали, не то бранились, – не разберешь. И тут же завизжала, растворилась тяжелая дверь. Чужой голос зычно рявкнул во тьму каморки:
– Здесь Фурманов?
Мы замерли. Насторожили уши. Сразу у меня словно оторвалось сердце и упало. Во рту будто полили холодными мятными каплями, дрогнула и задергалась нижняя губа судорогой, как электрическим током, дернуло ноги и руки, взгляд застыл и впился в дверь, откуда рявкнул голос, – все тело напряглось, застыло, окаменело.
Мы промолчали. А зычный голос снова:
– Фурманов здесь?
– Здесь, – отвечаю ему из темного угла и голосу стараюсь придать здоровую, крепкую бодрость.
– Выходи…
– Куда?
– Выходи.
– Я босой.
– Все равно – выходи босой…
И вдруг нам всем стало ясно:
«Уводят расстреливать!»
Я на прощанье друзьям:
– Ведут кончать… Прощайте, ребята.
– Ну, что ты… это, верно, на допрос… – успокоил было Мамелюк. И Бочаров и Кравчук что-то шепнули утешительное, а слабонервный Пацынко дрожал и в смертельном ужасе ни слова не мог выговорить, только прижался к стене и как-то странно, страшно глядел оттуда прямо мне в лицо, будто говорил: «Кончено… А за тобой и меня поведут…»
Но что же делать, что делать?
Я сжал руку первому Мамелюку:
– Прощай…
А в голове молнией мысль:
«Умереть надо хорошо… Надо умереть не трусом… Но как не хочется, о, как не хочется умирать…»
– Я не пойду, – вдруг заявил я им неожиданно для себя самого. – Приведите кого-нибудь из членов боеревкома – с ним пойду, а с вами без него не пойду…
Но в эту минуту произошло что-то странное. Мы видим, как эти пришедшие, что столпились в просвете дверей, занервничали, заторопились, не стоят на месте… И вдруг они опрометью кинулись из каземата… Мы ничего не понимали… А к дверям уж кто-то торопился, мы слышали чьи-то новые шаги…
– Ба, Муратов…
Он мигом сорвал с носа пенсне, быстро проговорил:
– Товарищи, мы вас сейчас освободим.
– Как?.. Муратов… Как освободим?
– Так вот, сейчас выпустим…
Мы слушаем и не верим тому, что слышим.
– Каким образом, Муратов? Скажи!
– Потом, потом…
И он заторопился, ушел за дверь, а через минуту вернулся снова. Под стражей нас вывели из каморки и повели в помещение боесовета. Боесовет заседал в полном составе.
– Пожалуйте с нами на заседанье, – нагло улыбаясь, заявил Чеусов.
Мы все еще путем ничего не понимали. Но решили держаться с достоинством:
– Какое заседанье? О чем нам совещаться?
– И что только будет тогда…
– Да уж, без удержу…
– А удрать тут некуда?
Такой вели меж собой мы разговор.
Приподнимались по стене, ползали по грязному полу, обшаривали каморку…
– Можно всего ожидать…
– Конечно… от такой шпаны…
– Тш-ш-ш… тут у них, может, шпики сидят…
– Да, потише, ребята, – вишь, кто-то заглядывает в окно…
К решетчатому окну подошли несколько человек красноармейцев и заглянули, но вряд ли что им было видно в казематном полумраке. И с этих пор, как заглянули двое, уже все время подходили новые и тоже заглядывали – один другому, слышно, сообщал:
– Попались главари-то… сидят…
И, позванивая оружием снаружи, приникли к решетке, силились нас рассмотреть, перешучивались, отмачивали словечки, иные слали проклятья, угрожали, обещая недоброе.
Сидим мы, вполголоса поговариваем. О чем тут говорить, в такие минуты? Положенье наше яснее ясного: в лапах у мятежников, в казематке, тронуться некуда, говорить не с кем, просить нечего и не у кого – мы тут совершенно беспомощны. И самое большое, что сможем сделать, – это умереть как следует, если уж к тому ведет дело.
Признаться, мы все ждали худого конца. И как его было не ждать? Если уж так легко сорвали митинг и не возобновили его, если уж так легко взяли нас и посадили, – отчего ж и не кончить нас столь же легко. Мы всецело у них в руках. Мы – да еще десяток в штадиве – единственное им препятствие на пути к становлению своей власти… В чем же дело? Отчего не предположить что нас выведут и расстреляют. Разве сами мы, подняв восстание, где-нибудь в белогвардейском стане и захватив белую головку, не можем вгорячах «послать ее в штаб Духонина»? Конечно, можем. А тут еще такая необузданно дикая толпа. И никаких принципов. Никакого, по существу, руководства. Отчего не предположить? И мы ждали. Сам собою угас, прекратился разговор. Наши соседи тоже притихли – верно, думали о том же, что и мы, того же ждали… В каморке мертвая тишь. Чернел, сгущался полумрак. Я придвинулся к окошку, снял сапоги, протянулся, примостился и, по привычке, вытащил клочок бумаги, вкривь и вкось начал записывать свои мысли в столь необычном состоянии. Я не видел строк, писал наугад. Но хотелось записать именно теперь, в самый этот редкостный момент жизни…
Так прошло часа два… Вдруг за дверью, в коридоре какая-то возня. Слышно, как быстро подошли к нашей каморке несколько человек и о чем-то заговорили со стражей, – нас оберегали двое с винтовками, стоявшие за дверью. Не то спрашивали, не то уговаривали, не то бранились, – не разберешь. И тут же завизжала, растворилась тяжелая дверь. Чужой голос зычно рявкнул во тьму каморки:
– Здесь Фурманов?
Мы замерли. Насторожили уши. Сразу у меня словно оторвалось сердце и упало. Во рту будто полили холодными мятными каплями, дрогнула и задергалась нижняя губа судорогой, как электрическим током, дернуло ноги и руки, взгляд застыл и впился в дверь, откуда рявкнул голос, – все тело напряглось, застыло, окаменело.
Мы промолчали. А зычный голос снова:
– Фурманов здесь?
– Здесь, – отвечаю ему из темного угла и голосу стараюсь придать здоровую, крепкую бодрость.
– Выходи…
– Куда?
– Выходи.
– Я босой.
– Все равно – выходи босой…
И вдруг нам всем стало ясно:
«Уводят расстреливать!»
Я на прощанье друзьям:
– Ведут кончать… Прощайте, ребята.
– Ну, что ты… это, верно, на допрос… – успокоил было Мамелюк. И Бочаров и Кравчук что-то шепнули утешительное, а слабонервный Пацынко дрожал и в смертельном ужасе ни слова не мог выговорить, только прижался к стене и как-то странно, страшно глядел оттуда прямо мне в лицо, будто говорил: «Кончено… А за тобой и меня поведут…»
Но что же делать, что делать?
Я сжал руку первому Мамелюку:
– Прощай…
А в голове молнией мысль:
«Умереть надо хорошо… Надо умереть не трусом… Но как не хочется, о, как не хочется умирать…»
– Я не пойду, – вдруг заявил я им неожиданно для себя самого. – Приведите кого-нибудь из членов боеревкома – с ним пойду, а с вами без него не пойду…
Но в эту минуту произошло что-то странное. Мы видим, как эти пришедшие, что столпились в просвете дверей, занервничали, заторопились, не стоят на месте… И вдруг они опрометью кинулись из каземата… Мы ничего не понимали… А к дверям уж кто-то торопился, мы слышали чьи-то новые шаги…
– Ба, Муратов…
Он мигом сорвал с носа пенсне, быстро проговорил:
– Товарищи, мы вас сейчас освободим.
– Как?.. Муратов… Как освободим?
– Так вот, сейчас выпустим…
Мы слушаем и не верим тому, что слышим.
– Каким образом, Муратов? Скажи!
– Потом, потом…
И он заторопился, ушел за дверь, а через минуту вернулся снова. Под стражей нас вывели из каморки и повели в помещение боесовета. Боесовет заседал в полном составе.
– Пожалуйте с нами на заседанье, – нагло улыбаясь, заявил Чеусов.
Мы все еще путем ничего не понимали. Но решили держаться с достоинством:
– Какое заседанье? О чем нам совещаться?