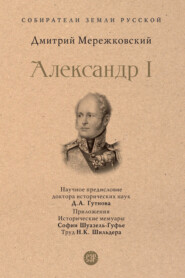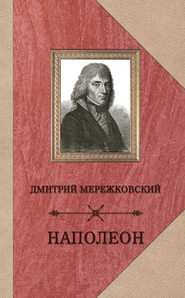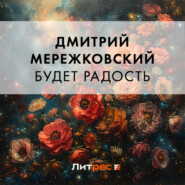По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грядущий хам (статья)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Грядущий хам (статья)
Дмитрий Сергеевич Мережковский
«…Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, «две родины: наша Русь и Европа». Может быть, он сам не знал, кого любит больше – Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни…»
Д. С. Мережковский
Грядущий хам
I
«Мещанство победит и должно победить, – пишет Герцен в 1864 г. в статье „Концы и начала“. – Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство – окончательная форма западной цивилизации«.
Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, «две родины: наша Русь и Европа». Может быть, он сам не знал, кого любит больше – Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни. «Всечеловечество», которое у Пушкина было эстетическим созерцанием, у Герцена первого из русских людей становится жизненным действием, подвигом. Он пожертвовал не отвлеченно, а реально своей любви к Европе своей любовью к России. Для Европы сделался вечным изгнанником, жил для нее и готов был умереть за нее. В минуты уныния и разочарования жалел, что не взял ружья, которое предлагал ему один работник во время революции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах.
Ежели такой человек усомнился в Европе, то не потому, что мало, а потому, что слишком верил в нее. И когда он произносит свой приговор: «Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего», когда утверждает, что в дверях старого мира «не Катилина, а смерть» и на лбу его цицероновское «vixerunt!»[1 - «Отжили!» (лат.) – этим словом Цицерон (106—43 гг. до н. э.) объявил, что с участниками заговора Катилины (63 г. до н. э.) покончено.], то можно не принимать этого приговора – я лично его не принимаю, – но нельзя не признать, что в устах Герцена он имеет страшный вес.
В подтверждение своих мыслей о неминуемой победе мещанства в Европе Герцен ссылается на одного из благороднейших представителей европейской культуры, на одного из ее «рыцарей без страха и упрека», на Дж. Ст. Милля.
«Мещанство, – говорит Герцен, – это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocrity) Ст. Милля, которая всем владеет, – толпа без невежества, но и без образования… Милль видит, что все около него пошлеет, мельчает; с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты… Он вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия сделается Китаем, – мы к этому прибавим: и не одна Англия«.
«Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как? – этого я не знаю, да и Милль не знает». «Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер? Посмотрите кругом – что в состоянии поднять народы?»
«Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма… С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией – западный мир стал отстаиваться, уравновешиваться».
«Везде, где людские муравейники и ульи достигали относительного удовлетворения и уравновешивания, – достижение вперед делалось тише и тише, пока, наконец, не наступала последняя тишина Китая».
По следам «азиатских народов, вышедших из истории», вся Европа «тихим, невозмущаемым шагом» идет к этой последней тишине благополучного муравейника, к «мещанской кристаллизации» – китаизации.
Герцен соглашается с Миллем: «Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мещанство, то, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христианство, Европа сделается Китаем».
«Подумай, – заключает Герцен письмо неизвестному русскому – кажется, всему русскому народу, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».
Ни Милль, ни Герцен не видели последней причины этого духовного мещанства. «Мы вовсе не врачи! мы – боль», – предупреждает Герцен. И действительно, во всех этих пророчествах – не только для Милля, но отчасти и для Герцена пророчествах на собственную голову – нет никакого вывода, знания, а есть лишь крик неизвестной боли, неизвестного ужаса. Причины мещанства Герцен и Милль не могли видеть, как человек не может видеть лицо свое без зеркала. То, чем они страдают и чего боятся в других, находится не только в других, но и в них самих, в последних непереступаемых и даже невидимых для них пределах их собственного религиозного, вернее, антирелигиозного сознания.
Последний предел всей современной европейской культуры – позитивизм, или, по терминологии Герцена, «научный реализм», как метод не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления. Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собою все бывшие религии. Позитивизм в этом широком смысле есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначальной, непроницаемой для человека среды явлений, середины, посредственности, той абсолютной, совершенно плотной, как Китайская Стена, «сплоченной посредственности», conglomerated mediocrity, того абсолютного мещанства, о которых говорят Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической глубины того, что говорят.
В Европе позитивизм только делается – в Китае он уже сделался религией. Духовная основа Китая, учение Лао-Дзы и Конфуция, – совершенный позитивизм, религия без Бога, «религия земная, безнебесная», как выражается Герцен о европейском научном реализме. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к «мирам иным». Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир – все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля – все, и нет ничего, кроме земли. Небо – не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не будут едино, как утверждает христианство, а суть едино. Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо. Серединное царство – царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства – «царство не Божие, а человеческое», как определяет опять-таки Герцен общественный идеал позитивизма. Китайскому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение потомкам, золотой век в будущем. Ежели не мы, то потомки наши увидят рай земной, земное небо, утверждает религия прогресса. И в поклонение предкам, и в поклонение потомкам одинаково приносится в жертву единственное человеческое лицо, личность, безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству – «паюсной икре, сжатой из мириад мещанской мелкоты», грядущему вселенскому полипняку и муравейнику. Отрекаясь от Бога, от абсолютной Божественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство.
Китайцы – совершенные желтолицые позитивисты; европейцы – пока еще несовершенные белолицые китайцы. В этом смысле американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком.
Для Герцена и Милля то столкновение Китая с Европою, которое начинается, но, вероятно, не кончится на наших глазах, имело бы особенно вещий, грозный смысл. Китай довел до совершенства позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной технической стороны положительного знания недоставало Китаю. Япония, не только военный, но и культурный авангард Востока, взяла у европейцев эту техническую сторону цивилизации и сразу сделалась для них непобедимой. Пока Европа противопоставляла скверным китайским пушкам свои лучшие, она побеждала, и эта победа казалась торжеством культуры над варварством. Но когда сравнялись пушки, то и культуры сравнялись. Оказалось, что у Европы ничего и не было, кроме пушек, чем бы она могла показать свое культурное превосходство над варварами. Христианство? Но «христианство обмелело»; оно еще имеет некоторое – довольно, впрочем, сомнительное – значение для внутренней европейской политики; но когда современному христианству, переезжая за границу Европы, приходится обменивать свои кредитные билеты на чистое золото, то за них никто ничего не дает. Да и в самой Европе бесстыднейшие стыдятся говорить о христианстве по поводу таких серьезных вещей, как война. Некогда источник великой силы, христианство сделалось теперь источником великой немощи, самоубийственной непоследовательности, противоречивости всей западноевропейской культуры. Христианство – эти старые семитические дрожжи в арийской крови – и есть именно то, что не дает ей устояться окончательно, мешает последней «кристаллизации», китаизации Европы. Кажется, позитивизм белой расы навеки попорчен, «подмочен» «метафизическим и теологическим периодом». Позитивизм желтой расы вообще и японской в частности – это свеженькое яичко, только что снесенное желтою монгольскою курочкой от белого арийского петушка, – ничем не попорчен: каким он был за два, за три тысячелетия, таким и остался, таким навсегда останется. Позитивизм европейский все еще слишком умственный, то есть поверхностный, так сказать, накожный; желтые люди – позитивисты до мозга костей. И культурное наследие веков – китайская метафизика, теология – не ослабляет, а усиливает этот естественный физиологический дар.
Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен, а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что реальное, более истинное.
Вот где главная «желтая опасность» – не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но под белою кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, «желтая» кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым «желтым» светом китайского заходящего или японского восходящего солнца. В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со временем европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев, неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами нового мира, позитивистами. Может быть, война желтой расы с белою – только недоразумение: свои своих не узнали. Когда же узнают, то война окончится миром, и это будет уже «мир всего мира», последняя тишина и покой небесный, Небесная империя, Серединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная «кристаллизация», всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной «паюсная икра» мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство есть хамство.
«Подумай, – можно заключить эти мысли, так же как некогда заключил Герцен, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».
У Герцена были две надежды на спасение Европы от Китая.
Первая, более слабая – на социальный переворот. Герцен ставил дилемму так:
«Если народ сломится – новый Китай неминуем. Но если народ сломит – неминуем социальный переворот«.
Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало мещанской культуры? Какою новою верою, источником нового благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой личности против безличного муравейника?
Сам Герцен утверждает:
«За большинством, теперь господствующим (то есть за большинством капиталистического мещанства), стоит еще большее большинство кандидатов на него (то есть пролетариата), для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства – единственная цель стремлений; их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет другого пути спасения и весь пройдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие».
Но если народ «весь пройдет мещанством», то, спрашивается, куда же он выйдет? Или из настоящего несовершенного мещанства – в будущее совершенное, из неблагополучного капиталистического муравейника – в благополучный социалистический, из черного железного века Европы – в «желтый» золотой век и вечность Китая? У голодного пролетария и у сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые – метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости. Война четвертого сословия с третьим, экономически реальная, столь же нереальна метафизически и религиозно, как война желтой расы с белою; и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обоих случаях одно и то же недоразумение: за внешнею, временною войною – внутренний вечный мир.
Итак, на вопрос, чем народ победит мещанство, у Герцена нет никакого ответа. Правда, он мог бы позаимствовать ответ у своего друга, анархиста Бакунина, мог бы перейти от социализма к анархизму. Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства – властью большинства; анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть во имя абсолютной свободы, абсолютной личности – этого начала всех начал и конца всех концов. Мещанство, непобедимое для социализма, кажется (хотя только до поры до времени, до новых, еще более крайних выводов, которых, впрочем, ни Герцен, ни Бакунин не предвидели) победимым для анархизма. Сила и слабость социализма как религии в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма как религии, на котором и сам он, социализм, построен. Сила и слабость анархизма в том, что он не предопределяет никакого социального творчества, не связывает себя никакой ответственностью за будущее перед прошлым и с исторической мели мещанства выплывает в открытое море неизведанных исторических глубин, где предстоит ему или окончательное крушение, или открытие нового неба и новой земли. «Мы должны разрушать, только разрушать, не думая о творчестве, – творить не наше дело», – проповедует Бакунин. Но тут уже кончается сознательный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная мистика, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика. Когда Бакунин в «Dieu et l'etat» полагает свой «антитеологизм», вернее, антитеизм теоретической основой безвластия, он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус на минус, отрицание на отрицание легко дает неожиданный плюс, нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной религии. Бакунинский «абсолютно свободный человек» слишком похож на фантастического «сверхчеловека», не-человека, чтобы со спокойным сердцем мог его принять Герцен, который боится всякой мистики больше всего, даже больше самого мещанства, не сознавая, что этот суеверный страх мистики уже имеет в себе нечто мистическое. Как бы то ни было, правоверный социалист Герцен отшатнулся от впавшего в ересь анархиста Бакунина.
В конце жизни Герцен потерял или почти потерял надежду на социальный переворот в Европе, кажется, впрочем, потому, что перестал верить не столько в его возможность, сколько в спасительность.
Тогда-то загорелся последний свет в надвигавшейся тьме, последняя надежда в наступавшем отчаянии – надежда на Россию, на русскую сельскую общину, которая будто бы спасет Европу.
II
Ежели Герцен был Мефистофелем Бакунина в разоблачении бессознательной мистики анархического «подполья», то Бакунин, в свою очередь, оказался Мефистофелем Герцена в разоблачении столь же бессознательной мистики русской общины как спасительницы Европы.
«Вы все готовы простить, – писал Бакунин Огареву и Герцену с Исхии в 1866 году, – пожалуй, готовы поддерживать все, если не прямо, так косвенно, лишь бы оставалось неприкосновенным ваше мистическое святая святых– великорусская община, от которой мистически, не рассердитесь за обидное, но верное слово, вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и всех славянских земель, для Европы, для мира. А кстати, скажите, отчего вы не соблаговолили отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам: вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась, да и стоит века в китайской неподвижности со своим правом на землю. Почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства? Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, по простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому бессильному и небогатому члену, его систематичная притеснительность к тем членам, в которых проявляются притязания на малейшую самостоятельность, и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки – вот во всецелости ее настоящего характера великорусская крестьянская община».
Что мог бы правоверный Герцен ответить еретику Бакунину на эту анафему? Ничего позитивного, а разве только мистическое: credo, quia absurdum[2 - Верю, потому что невероятно (лат.). Предполагаемый источник выражения – трактат одного из ранних деятелей христианской церкви Тертуллиана (ок. 155—220).], так же, впрочем, как и Бакунин ничего не мог бы ответить Герцену по вопросу об «антитеологическом», но все-таки слишком теологическом основании анархизма, этого непонятного с точки зрения позитивной, то есть относительной, абсолютного освобождения абсолютной личности. В том-то и дело, что у обоих, у Герцена и Бакунина, были такие предельные выводы, дойдя до которых они должны были, глядя друг другу в глаза, рассмеяться, как авгуры. Но они хотели быть не авгурами, жрецами старых богов, а пророками новых и потому избегали смотреть друг другу в глаза. Каждый, чтобы не смеяться над самим собою, смеялся над своим противником; но во время этого взаимного смеха царапали кошки на сердце обоих.
Почему, в самом деле, общинное владение муравейником должно избавить муравьев от муравьиной участи? И чем дикое рабство лучше культурного хамства?
Когда Герцен бежал из России в Европу, он попал из одного рабства в другое, из материального – в духовное. А когда захотел обратно бежать из Европы в Россию, то попал из европейского движения к новому Китаю – в старую «китайскую неподвижность» России. В обоих случаях – из огня да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый или новый? Оба хуже, как отвечают дети. Герцен это знал, но не хотел знать. И когда бегал из одного Китая в другой, то от себя самого бегал, метался в последнем ужасе последнего сознания, что уже не во что верить ни в Европе, ни в России.
«Помилуйте, к чему же после этого вся история? – спрашивает он себя в одном из своих безнадежных гамлетовских монологов. – Да и все на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю».
Но ведь это Каинов ответ. Ведь это байроновская Darkness, последняя «тьма», предел отчаяния, на какое только способна душа человеческая. Ведь ежели вся история – бессмыслица, то не из-за чего было и огород городить – бороться с мещанством, деспотизмом, реакцией: будь что будет, все равно весь мир – «дьяволов водевиль»; и, обращаясь ко всему миру, остается воскликнуть, как в 1849 году, после революции, восклицает Герцен, обращаясь к старой Европе:
«Да здравствует разрушение и хаос! Да здравствует смерть!»
Или – что еще хуже: да здравствует мещанство!
«Христианство обмелело», – утверждает Герцен. Если обмелело, значит, когда-то было глубоким. Почему же не исследует он эту глубину христианства? Не потому ли, что позитивный лот, пригодный для мели христианства, не хватает до дна в глубоких местах?
Вместе с христианством, добавляет Герцен, «обмелела и революция». Если они обмелели вместе, не значит ли это, что мель у них общая и общая глубина. Мель – позитивная – абсолютное мещанство человека без Бога; глубина – религиозная – абсолютное благородство человека в Боге. Сам Герцен признает связь революционных идей с религиозными, понимает, что «декларация прав человеческих» не могла бы явиться до и без христианства.
«Революция, – говорит он, – так же как реформация, стоит на церковном погосте. Вольтер, благословивший Франклинова внука „во имя Бога и свободы“, такой же богослов, как Василий Великий и Григорий Назианзин[3 - Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330—379) – теолог, философ-платоник, один из трех «вселенских учителей» восточной церкви. Был архиепископом Кесарии (М. Азия). Григорий Назианзин (Богослов) (ок. 330 – ок. 390) – греческий поэт и мыслитель, сподвижник Василия Великого; был епископом Назианза (М. Азия).], только разных толков. Лунный холодный отсвет католицизма (то есть одной из величайших попыток вселенского христианства) прошел всеми судьбами революции. Последнее слово католицизма сказано реформацией и революцией; они обнаружили его тайну; мистическое искупление разрешено политическим освобождением. Символ веры Никейского собора выразился признанием прав каждого человека в символе последнего вселенского собора, то есть конвента 1792 года. Нравственность евангелиста Матфея – та же самая, которую проповедует деист Ж.-Ж. Руссо: «Вера, любовь и надежда – при входе; свобода, братство и равенство – при выходе».
Если так, то, казалось бы, прежде чем произносить смертный приговор европейской культуре и бежать от нее к русскому варварству в отчаянии последнего безверия, следовало подумать, нельзя ли эти два обмелевшие начала всемирной культуры – религию и общественность – как-нибудь сдвинуть с их общей позитивной мели в их общую религиозную глубину. Почему же Герцен об этом не думает? Кажется, все потому же: религиозных глубин боится он еще больше, чем позитивных мелей; ему мерещится в глубине всякой мистики свирепое чудовище реакции, своего рода апокалипсический зверь, выходящий из бездны.
За осторожного Герцена подумал и ответил неосторожный Бакунин, который свел социологическую дилемму Герцена к дилемме теологической или «антитеологической»:
«Dieu est donc l'homme et esclave. L'homme est libre, donc il n'y a point de Dieu. – Je defie qui que ce soit de sortir de ce cercle et maintenant choisissons».
Дмитрий Сергеевич Мережковский
«…Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, «две родины: наша Русь и Европа». Может быть, он сам не знал, кого любит больше – Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни…»
Д. С. Мережковский
Грядущий хам
I
«Мещанство победит и должно победить, – пишет Герцен в 1864 г. в статье „Концы и начала“. – Да, любезный друг, пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство – окончательная форма западной цивилизации«.
Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, «две родины: наша Русь и Европа». Может быть, он сам не знал, кого любит больше – Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни. «Всечеловечество», которое у Пушкина было эстетическим созерцанием, у Герцена первого из русских людей становится жизненным действием, подвигом. Он пожертвовал не отвлеченно, а реально своей любви к Европе своей любовью к России. Для Европы сделался вечным изгнанником, жил для нее и готов был умереть за нее. В минуты уныния и разочарования жалел, что не взял ружья, которое предлагал ему один работник во время революции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах.
Ежели такой человек усомнился в Европе, то не потому, что мало, а потому, что слишком верил в нее. И когда он произносит свой приговор: «Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего», когда утверждает, что в дверях старого мира «не Катилина, а смерть» и на лбу его цицероновское «vixerunt!»[1 - «Отжили!» (лат.) – этим словом Цицерон (106—43 гг. до н. э.) объявил, что с участниками заговора Катилины (63 г. до н. э.) покончено.], то можно не принимать этого приговора – я лично его не принимаю, – но нельзя не признать, что в устах Герцена он имеет страшный вес.
В подтверждение своих мыслей о неминуемой победе мещанства в Европе Герцен ссылается на одного из благороднейших представителей европейской культуры, на одного из ее «рыцарей без страха и упрека», на Дж. Ст. Милля.
«Мещанство, – говорит Герцен, – это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocrity) Ст. Милля, которая всем владеет, – толпа без невежества, но и без образования… Милль видит, что все около него пошлеет, мельчает; с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты… Он вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия сделается Китаем, – мы к этому прибавим: и не одна Англия«.
«Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как? – этого я не знаю, да и Милль не знает». «Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер? Посмотрите кругом – что в состоянии поднять народы?»
«Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма… С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией – западный мир стал отстаиваться, уравновешиваться».
«Везде, где людские муравейники и ульи достигали относительного удовлетворения и уравновешивания, – достижение вперед делалось тише и тише, пока, наконец, не наступала последняя тишина Китая».
По следам «азиатских народов, вышедших из истории», вся Европа «тихим, невозмущаемым шагом» идет к этой последней тишине благополучного муравейника, к «мещанской кристаллизации» – китаизации.
Герцен соглашается с Миллем: «Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мещанство, то, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христианство, Европа сделается Китаем».
«Подумай, – заключает Герцен письмо неизвестному русскому – кажется, всему русскому народу, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».
Ни Милль, ни Герцен не видели последней причины этого духовного мещанства. «Мы вовсе не врачи! мы – боль», – предупреждает Герцен. И действительно, во всех этих пророчествах – не только для Милля, но отчасти и для Герцена пророчествах на собственную голову – нет никакого вывода, знания, а есть лишь крик неизвестной боли, неизвестного ужаса. Причины мещанства Герцен и Милль не могли видеть, как человек не может видеть лицо свое без зеркала. То, чем они страдают и чего боятся в других, находится не только в других, но и в них самих, в последних непереступаемых и даже невидимых для них пределах их собственного религиозного, вернее, антирелигиозного сознания.
Последний предел всей современной европейской культуры – позитивизм, или, по терминологии Герцена, «научный реализм», как метод не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления. Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собою все бывшие религии. Позитивизм в этом широком смысле есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначальной, непроницаемой для человека среды явлений, середины, посредственности, той абсолютной, совершенно плотной, как Китайская Стена, «сплоченной посредственности», conglomerated mediocrity, того абсолютного мещанства, о которых говорят Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической глубины того, что говорят.
В Европе позитивизм только делается – в Китае он уже сделался религией. Духовная основа Китая, учение Лао-Дзы и Конфуция, – совершенный позитивизм, религия без Бога, «религия земная, безнебесная», как выражается Герцен о европейском научном реализме. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к «мирам иным». Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир – все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля – все, и нет ничего, кроме земли. Небо – не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не будут едино, как утверждает христианство, а суть едино. Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо. Серединное царство – царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства – «царство не Божие, а человеческое», как определяет опять-таки Герцен общественный идеал позитивизма. Китайскому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение потомкам, золотой век в будущем. Ежели не мы, то потомки наши увидят рай земной, земное небо, утверждает религия прогресса. И в поклонение предкам, и в поклонение потомкам одинаково приносится в жертву единственное человеческое лицо, личность, безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству – «паюсной икре, сжатой из мириад мещанской мелкоты», грядущему вселенскому полипняку и муравейнику. Отрекаясь от Бога, от абсолютной Божественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство.
Китайцы – совершенные желтолицые позитивисты; европейцы – пока еще несовершенные белолицые китайцы. В этом смысле американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком.
Для Герцена и Милля то столкновение Китая с Европою, которое начинается, но, вероятно, не кончится на наших глазах, имело бы особенно вещий, грозный смысл. Китай довел до совершенства позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной технической стороны положительного знания недоставало Китаю. Япония, не только военный, но и культурный авангард Востока, взяла у европейцев эту техническую сторону цивилизации и сразу сделалась для них непобедимой. Пока Европа противопоставляла скверным китайским пушкам свои лучшие, она побеждала, и эта победа казалась торжеством культуры над варварством. Но когда сравнялись пушки, то и культуры сравнялись. Оказалось, что у Европы ничего и не было, кроме пушек, чем бы она могла показать свое культурное превосходство над варварами. Христианство? Но «христианство обмелело»; оно еще имеет некоторое – довольно, впрочем, сомнительное – значение для внутренней европейской политики; но когда современному христианству, переезжая за границу Европы, приходится обменивать свои кредитные билеты на чистое золото, то за них никто ничего не дает. Да и в самой Европе бесстыднейшие стыдятся говорить о христианстве по поводу таких серьезных вещей, как война. Некогда источник великой силы, христианство сделалось теперь источником великой немощи, самоубийственной непоследовательности, противоречивости всей западноевропейской культуры. Христианство – эти старые семитические дрожжи в арийской крови – и есть именно то, что не дает ей устояться окончательно, мешает последней «кристаллизации», китаизации Европы. Кажется, позитивизм белой расы навеки попорчен, «подмочен» «метафизическим и теологическим периодом». Позитивизм желтой расы вообще и японской в частности – это свеженькое яичко, только что снесенное желтою монгольскою курочкой от белого арийского петушка, – ничем не попорчен: каким он был за два, за три тысячелетия, таким и остался, таким навсегда останется. Позитивизм европейский все еще слишком умственный, то есть поверхностный, так сказать, накожный; желтые люди – позитивисты до мозга костей. И культурное наследие веков – китайская метафизика, теология – не ослабляет, а усиливает этот естественный физиологический дар.
Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен, а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что реальное, более истинное.
Вот где главная «желтая опасность» – не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но под белою кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, «желтая» кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым «желтым» светом китайского заходящего или японского восходящего солнца. В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со временем европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев, неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами нового мира, позитивистами. Может быть, война желтой расы с белою – только недоразумение: свои своих не узнали. Когда же узнают, то война окончится миром, и это будет уже «мир всего мира», последняя тишина и покой небесный, Небесная империя, Серединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная «кристаллизация», всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной «паюсная икра» мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство есть хамство.
«Подумай, – можно заключить эти мысли, так же как некогда заключил Герцен, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».
У Герцена были две надежды на спасение Европы от Китая.
Первая, более слабая – на социальный переворот. Герцен ставил дилемму так:
«Если народ сломится – новый Китай неминуем. Но если народ сломит – неминуем социальный переворот«.
Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало мещанской культуры? Какою новою верою, источником нового благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой личности против безличного муравейника?
Сам Герцен утверждает:
«За большинством, теперь господствующим (то есть за большинством капиталистического мещанства), стоит еще большее большинство кандидатов на него (то есть пролетариата), для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства – единственная цель стремлений; их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет другого пути спасения и весь пройдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие».
Но если народ «весь пройдет мещанством», то, спрашивается, куда же он выйдет? Или из настоящего несовершенного мещанства – в будущее совершенное, из неблагополучного капиталистического муравейника – в благополучный социалистический, из черного железного века Европы – в «желтый» золотой век и вечность Китая? У голодного пролетария и у сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые – метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости. Война четвертого сословия с третьим, экономически реальная, столь же нереальна метафизически и религиозно, как война желтой расы с белою; и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обоих случаях одно и то же недоразумение: за внешнею, временною войною – внутренний вечный мир.
Итак, на вопрос, чем народ победит мещанство, у Герцена нет никакого ответа. Правда, он мог бы позаимствовать ответ у своего друга, анархиста Бакунина, мог бы перейти от социализма к анархизму. Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства – властью большинства; анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть во имя абсолютной свободы, абсолютной личности – этого начала всех начал и конца всех концов. Мещанство, непобедимое для социализма, кажется (хотя только до поры до времени, до новых, еще более крайних выводов, которых, впрочем, ни Герцен, ни Бакунин не предвидели) победимым для анархизма. Сила и слабость социализма как религии в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма как религии, на котором и сам он, социализм, построен. Сила и слабость анархизма в том, что он не предопределяет никакого социального творчества, не связывает себя никакой ответственностью за будущее перед прошлым и с исторической мели мещанства выплывает в открытое море неизведанных исторических глубин, где предстоит ему или окончательное крушение, или открытие нового неба и новой земли. «Мы должны разрушать, только разрушать, не думая о творчестве, – творить не наше дело», – проповедует Бакунин. Но тут уже кончается сознательный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная мистика, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика. Когда Бакунин в «Dieu et l'etat» полагает свой «антитеологизм», вернее, антитеизм теоретической основой безвластия, он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус на минус, отрицание на отрицание легко дает неожиданный плюс, нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной религии. Бакунинский «абсолютно свободный человек» слишком похож на фантастического «сверхчеловека», не-человека, чтобы со спокойным сердцем мог его принять Герцен, который боится всякой мистики больше всего, даже больше самого мещанства, не сознавая, что этот суеверный страх мистики уже имеет в себе нечто мистическое. Как бы то ни было, правоверный социалист Герцен отшатнулся от впавшего в ересь анархиста Бакунина.
В конце жизни Герцен потерял или почти потерял надежду на социальный переворот в Европе, кажется, впрочем, потому, что перестал верить не столько в его возможность, сколько в спасительность.
Тогда-то загорелся последний свет в надвигавшейся тьме, последняя надежда в наступавшем отчаянии – надежда на Россию, на русскую сельскую общину, которая будто бы спасет Европу.
II
Ежели Герцен был Мефистофелем Бакунина в разоблачении бессознательной мистики анархического «подполья», то Бакунин, в свою очередь, оказался Мефистофелем Герцена в разоблачении столь же бессознательной мистики русской общины как спасительницы Европы.
«Вы все готовы простить, – писал Бакунин Огареву и Герцену с Исхии в 1866 году, – пожалуй, готовы поддерживать все, если не прямо, так косвенно, лишь бы оставалось неприкосновенным ваше мистическое святая святых– великорусская община, от которой мистически, не рассердитесь за обидное, но верное слово, вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и всех славянских земель, для Европы, для мира. А кстати, скажите, отчего вы не соблаговолили отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам: вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась, да и стоит века в китайской неподвижности со своим правом на землю. Почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства? Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, по простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому бессильному и небогатому члену, его систематичная притеснительность к тем членам, в которых проявляются притязания на малейшую самостоятельность, и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки – вот во всецелости ее настоящего характера великорусская крестьянская община».
Что мог бы правоверный Герцен ответить еретику Бакунину на эту анафему? Ничего позитивного, а разве только мистическое: credo, quia absurdum[2 - Верю, потому что невероятно (лат.). Предполагаемый источник выражения – трактат одного из ранних деятелей христианской церкви Тертуллиана (ок. 155—220).], так же, впрочем, как и Бакунин ничего не мог бы ответить Герцену по вопросу об «антитеологическом», но все-таки слишком теологическом основании анархизма, этого непонятного с точки зрения позитивной, то есть относительной, абсолютного освобождения абсолютной личности. В том-то и дело, что у обоих, у Герцена и Бакунина, были такие предельные выводы, дойдя до которых они должны были, глядя друг другу в глаза, рассмеяться, как авгуры. Но они хотели быть не авгурами, жрецами старых богов, а пророками новых и потому избегали смотреть друг другу в глаза. Каждый, чтобы не смеяться над самим собою, смеялся над своим противником; но во время этого взаимного смеха царапали кошки на сердце обоих.
Почему, в самом деле, общинное владение муравейником должно избавить муравьев от муравьиной участи? И чем дикое рабство лучше культурного хамства?
Когда Герцен бежал из России в Европу, он попал из одного рабства в другое, из материального – в духовное. А когда захотел обратно бежать из Европы в Россию, то попал из европейского движения к новому Китаю – в старую «китайскую неподвижность» России. В обоих случаях – из огня да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый или новый? Оба хуже, как отвечают дети. Герцен это знал, но не хотел знать. И когда бегал из одного Китая в другой, то от себя самого бегал, метался в последнем ужасе последнего сознания, что уже не во что верить ни в Европе, ни в России.
«Помилуйте, к чему же после этого вся история? – спрашивает он себя в одном из своих безнадежных гамлетовских монологов. – Да и все на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю».
Но ведь это Каинов ответ. Ведь это байроновская Darkness, последняя «тьма», предел отчаяния, на какое только способна душа человеческая. Ведь ежели вся история – бессмыслица, то не из-за чего было и огород городить – бороться с мещанством, деспотизмом, реакцией: будь что будет, все равно весь мир – «дьяволов водевиль»; и, обращаясь ко всему миру, остается воскликнуть, как в 1849 году, после революции, восклицает Герцен, обращаясь к старой Европе:
«Да здравствует разрушение и хаос! Да здравствует смерть!»
Или – что еще хуже: да здравствует мещанство!
«Христианство обмелело», – утверждает Герцен. Если обмелело, значит, когда-то было глубоким. Почему же не исследует он эту глубину христианства? Не потому ли, что позитивный лот, пригодный для мели христианства, не хватает до дна в глубоких местах?
Вместе с христианством, добавляет Герцен, «обмелела и революция». Если они обмелели вместе, не значит ли это, что мель у них общая и общая глубина. Мель – позитивная – абсолютное мещанство человека без Бога; глубина – религиозная – абсолютное благородство человека в Боге. Сам Герцен признает связь революционных идей с религиозными, понимает, что «декларация прав человеческих» не могла бы явиться до и без христианства.
«Революция, – говорит он, – так же как реформация, стоит на церковном погосте. Вольтер, благословивший Франклинова внука „во имя Бога и свободы“, такой же богослов, как Василий Великий и Григорий Назианзин[3 - Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330—379) – теолог, философ-платоник, один из трех «вселенских учителей» восточной церкви. Был архиепископом Кесарии (М. Азия). Григорий Назианзин (Богослов) (ок. 330 – ок. 390) – греческий поэт и мыслитель, сподвижник Василия Великого; был епископом Назианза (М. Азия).], только разных толков. Лунный холодный отсвет католицизма (то есть одной из величайших попыток вселенского христианства) прошел всеми судьбами революции. Последнее слово католицизма сказано реформацией и революцией; они обнаружили его тайну; мистическое искупление разрешено политическим освобождением. Символ веры Никейского собора выразился признанием прав каждого человека в символе последнего вселенского собора, то есть конвента 1792 года. Нравственность евангелиста Матфея – та же самая, которую проповедует деист Ж.-Ж. Руссо: «Вера, любовь и надежда – при входе; свобода, братство и равенство – при выходе».
Если так, то, казалось бы, прежде чем произносить смертный приговор европейской культуре и бежать от нее к русскому варварству в отчаянии последнего безверия, следовало подумать, нельзя ли эти два обмелевшие начала всемирной культуры – религию и общественность – как-нибудь сдвинуть с их общей позитивной мели в их общую религиозную глубину. Почему же Герцен об этом не думает? Кажется, все потому же: религиозных глубин боится он еще больше, чем позитивных мелей; ему мерещится в глубине всякой мистики свирепое чудовище реакции, своего рода апокалипсический зверь, выходящий из бездны.
За осторожного Герцена подумал и ответил неосторожный Бакунин, который свел социологическую дилемму Герцена к дилемме теологической или «антитеологической»:
«Dieu est donc l'homme et esclave. L'homme est libre, donc il n'y a point de Dieu. – Je defie qui que ce soit de sortir de ce cercle et maintenant choisissons».