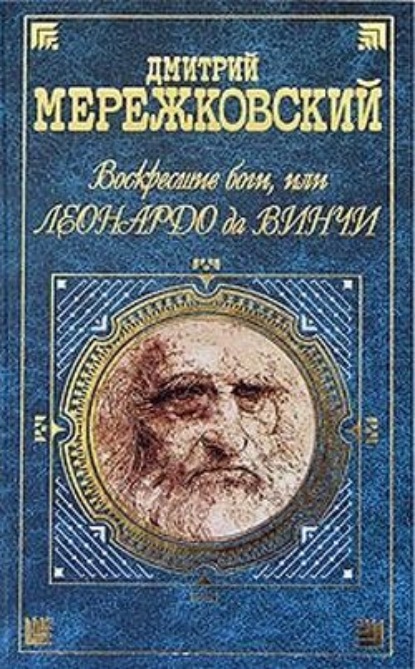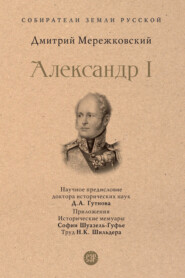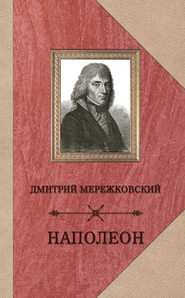По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Осенняя, тусклая, сырая – казалась она ему особенно милой, родственной, напоминавшей Джоконду. И день был ее – туманный, тихий, с влажно-тусклым, как бы подводным солнцем, которое давало женским лицам особую прелесть.
Он уже не спрашивал себя, как они встретятся, что он ей скажет, как сделает, чтобы больше никогда не расставаться с нею, чтобы супруга мессера Джокондо была ему единственной, вечной подругой. Знал, что все устроится само собой, – трудное будет легким, невозможное возможным – только бы свидеться.
«Главное, не думать, тогда лучше выходит, – повторял он слова Рафаэля. – Я спрошу ее, и теперь она скажет мне то, что тогда не успела сказать: что нужно, кроме любопытства, чтобы проникнуть в последние, может быть, самые чудные тайны Пещеры?»
И такая радость наполняла душу его, как будто ему было не пятьдесят четыре, а шестнадцать лет, как будто вся жизнь была впереди. Только в самой глубине сердца, куда не досягал ни единый луч сознания, под этой радостью было грозное предчувствие.
Он пошел к Никколо, чтобы передать ему деловые бумаги и чертежи землекопных работ. К мессеру Джоконда предполагал зайти на следующее утро; но не вытерпел и решил в тот же вечер, возвращаясь от Макиавелли и проходя мимо их дома на Лунгарно делле Грацие, спросить у конюха, слуги и привратника, вернулись ли хозяева и все ли у них благополучно.
Леонардо спускался по улице Торнабуони к мосту Санта-Тринити – по тому же пути, только в обратном направлении, как в последнюю ночь перед отъездом.
Погода к вечеру изменилась внезапно, как это часто бывает во Флоренции осенью. Из ущелья Муньоне подул северный ветер, пронзительный, точно сквозной. И высоты Муджелло сразу побелели, точно поседели, от инея. Накрапывал дождь. Вдруг снизу, из-под полога туч, как будто отрезанного и оставлявшего над горизонтом узкую полосу чистого неба, брызнуло солнце и осветило грязные, мокрые улицы, глянцевитые крыши домов и лица людей медно-желтым, холодным и грубым светом. Дождь сделался похожим на медную пыль. И кое-где вдали засверкали оконные стекла, точно раскаленные уголья.
Против церкви Санта-Тринита, у моста, на углу набережной и улицы Торнабуони, возвышался огромный, из дикого коричнево-серого камня, с решетчатыми окнами и зубцами, напоминавший средневековую крепость, палаццо Спини. Внизу, по стенам его, как у многих старинных флорентинских дворцов, тянулись широкие каменные лавки, на которых сиживали граждане всех возрастов и званий, играя в кости или шашки, слушая новости, беседуя о делах, зимою греясь на солнце, летом отдыхая в тени. С той стороны дворца, что выходила на Арно, над скамьей устроен был черепичный навес со столбиками, вроде лоджии.
Проходя мимо навеса, увидел Леонардо собрание полузнакомых людей. Одни сидели, другие стояли. Разговаривали так оживленно, что не замечали порывов резкого ветра с дождем.
– Мессер, мессер Леонардо! – окликнули его. – Пожалуйте сюда, разрешите-ка наш спор.
Он остановился.
Спорили о нескольких загадочных стихах «Божественной Комедии» в тридцать четвертой песне «Ада», где поэт рассказывает о великане Дите, погруженном в лед до середины груди, на самом дне Проклятого Колодца. Это – главный вождь низвергнутых ангельских полчищ, «Император Скорбного Царства». Три лица его – черное, красное, желтое – как бы дьявольское отражение божественных ипостасей Троицы. И в каждой из трех пастей – по грешнику, которых он вечно гложет: в черной – Иуда Предатель, в красной – Брут, в желтой – Кассий. Спорили о том, почему Алигьери казнит того, кто восстал на Человекобога, казнит убийцу Юлия Цезаря и величайшего из Отступников, того, кто восстал на Богочеловека, почти одинаковою казнью, – ибо вся разница лишь в том, что у Брута ноги внутри Дитовой пасти, голова – снаружи, тогда как ноги Иуды – снаружи, а голова – внутри. Одни объясняли это тем, что Данте, пламенный гибеллин, защитник власти императорской против земного владычества пап, считал Римскую монархию столь же или почти столь же священною и нужною для спасения мира, как Римскую Церковь. Другие возражали, что такое объяснение отзывается ересью и не соответствует христианскому духу благочестивейшего из поэтов. Чем больше спорили, тем неразгаданнее становилась тайна поэта.
Пока старый богатый шерстник подробно объяснял художнику предмет спора, Леонардо, немного прищурив глаза от ветра, смотрел вдаль, в ту сторону, откуда, по набережной Лунгарно Ачайоли, тяжелою, неуклюжею, точно медвежьей, поступью шел небрежно и бедно одетый человек, сутулый, костлявый, с большой головой, с черными, жесткими курчавыми волосами, с жидкою и клочковатою козлиною бородкою, с оттопыренными ушами, с широкоскулым и плоским лицом. Это был Микеланджело Буонарроти. Особенное, почти отталкивающее уродство придавал ему нос, переломленный и расплющенный ударом кулака еще в ранней молодости, во время драки с одним ваятелем-соперником, которого злобными шутками довел он до бешенства. Зрачки маленьких желто-карих глаз отливали порою странным багровым блеском. Воспаленные веки, почти без ресниц, были красны, потому что, не довольствуясь днем, работал он и ночью, прикрепляя ко лбу круглый фонарик, что делало его похожим на Циклопа с огненным глазом посередине лба, который копошится в подземной темноте и с глухим медвежьим бормотаньем и лязгом железного молота яростно борется с камнем.
– Что скажете, мессере? – обратились к Леонардо спорившие.
Леонардо всегда надеялся, что ссора его с Буонарроти кончится миром. Он мало думал об этой ссоре во время своего отсутствия из Флоренции и почти забыл ее.
Такая тишина и ясность были в сердце его в эту минуту и он готов был обратиться к сопернику с такими добрыми словами, что Микеланджело, казалось ему, не мог не понять.
– Мессер Буонарроти – великий знаток Алигьери, – молвил Леонардо с вежливою, спокойною улыбкою, указывая на Микеланджело. – Он лучше меня объяснит вам это место.
Микеланджело шел, по обыкновению, опустив голову, не глядя по сторонам, и не заметил, как наткнулся на собрание. Услышав имя свое из уст Леонардо, остановился и поднял глаза.
Застенчивому и робкому до дикости, были ему тягостны взоры людей, потому что никогда не забывал он о своем уродстве и мучительно стыдился его: ему казалось, что все над ним смеются.
Застигнутый врасплох, он в первую минуту растерялся: подозрительно поглядывал на всех исподлобья своими маленькими желто-карими глазками, беспомощно моргая воспаленными веками, болезенно жмурясь от солнца и человеческих взоров.
Но когда увидел ясную улыбку соперника и проницательный взор его, устремленный невольно сверху вниз, потому что Леонардо был ростом выше Микеланджело, – робость, как это часто с ним бывало, мгновенно превратилась в ярость. Долго не мог он произнести ни слова. Лицо его то бледнело, то краснело неровными пятнами. Наконец с усилием проговорил глухим, сдавленным голосом:
– Сам объясняй! Тебе и книги в руки, умнейший из людей, который доверился каплунам-ломбардцам, шестнадцать лет возился с глиняным Колоссом и не сумел отлить его из бронзы – должен был оставить все с позором!..
Он чувствовал, что говорит не то, что следует, искал и не находил достаточно обидных слов, чтобы унизить соперника.
Все притихли, обратив на них любопытные взоры.
Леонардо молчал. И несколько мгновений оба молча смотрели друг другу в глаза – один с прежнею кроткою улыбкою, теперь удивленной и опечаленной, другой – с презрительной усмешкой, которая ему не удавалась, только искажала лицо его судорогой, делая еще безобразнее.
Перед яростной силой Буонарроти тихая, женственная прелесть Леонардо казалась бесконечною слабостью.
У Леонардо был рисунок, изображавший борьбу двух чудовищ – Дракона и Льва: крылатый змей, царь воздуха, побеждал бескрылого царя земли.
То, что теперь помимо сознания и воли их происходило между ними, было похоже на эту борьбу.
И Леонардо почувствовал, что мона Лиза права: никогда соперник не простит ему «тишины, которая сильнее бури».
Микеланджело хотел что-то прибавить, но только махнул рукою, быстро отвернулся и пошел дальше своею неуклюжею, медвежьей поступью, с глухим, неясным бормотаньем, понурив голову, согнув спину, как будто неимоверная тяжесть давила ему плечи. И скоро скрылся, точно растаял в мутной, огненно-медной пыли дождя и зловещего солнца.
Леонардо также продолжал свой путь.
На мосту догнал его один из бывших в собрании у палаццо Спини – вертлявый и плюгавый человечек, похожий на еврея, хотя и чистокровный флорентинец. Художник не помнил, кто этот человечек и как его имя, только знал, что он злой сплетник.
Ветер на мосту усилился; свистел в ушах, колол лицо ледяными иглами. Волны реки, уходившие вдаль к низкому солнцу, под низким и темным, точно каменным небом казались подземным потоком расплавленной меди.
Леонардо шел по узкому сухому месту, не обращая внимания на спутника, который поспевал за ним, шлепая по грязи, вприпрыжку, забегая вперед, как собачонка, заглядывая в глаза ему и заговаривая о Микеланджело. Он, видимо, желал подхватить какое-нибудь словцо Леонардо, чтобы тотчас передать сопернику и разнести по городу. Но Леонардо молчал.
– Скажите, мессере, – не отставал от него назойливый человечек, – ведь вы еще не кончили портрета Джоконды?
– Не кончил, – ответил художник и нахмурился. – А вам что?
– Нет, ничего, так. Вот ведь, подумаешь, целых три года бьетесь над одною картиною, и все еще не кончили. А нам, непосвященным, она уже и теперь кажется таким совершенством, что большего мы и представить себе не можем!..
И усмехнулся подобострастно.
Леонардо посмотрел на него с отвращением. Этот плюгавый человечек вдруг сделался ему так ненавистен, что, казалось, если бы только он дал себе волю, то схватил бы его за шиоврот и бросил в реку.
– Что же, однако, будет с портретом? – продолжал неугомонный спутник. – Или вы еще не слышали, мессере Леонардо?..
Он, видимо, нарочно тянул и мямлил: у него было что-то на уме.
И вдруг художник, сквозь отвращение, почувствовал животный страх к своему собеседнику – словно тело его было скользким и коленчато-подвижным, как тело насекомого. Должно быть, и тот уже что-то почуял. Он еще более сделался похожим на жида; руки его затряслись, глаза запрыгали.
– Ах, Боже мой, а ведь и в самом деле, вы только сегодня утром приехали и еще не знаете. Представьте себе, какое несчастье. Бедный мессер Джокондо. Третий раз овдовел. Вот уже месяц, как мадонна Лиза волею Божьей преставилась…
У Леонардо в глазах потемнело. Одно мгновение казалось ему, что он упадет. Человек так и впился в него своими колючими глазками.
Но художник сделал над собой неимоверное усилие – и лицо его, только слегка побледнев, осталось непроницаемым; по крайней мере, спутник ничего не заметил.
Окончательно разочаровавшись и увязнув по щиколотку в грязи на площади Фрескобальди, он отстал.
Первою мыслью Леонардо, когда он опомнился, было то, что сплетник солгал, нарочно выдумал это известие, чтобы увидеть, какое впечатление он произведет на него, и потом всюду рассказывать, давая новую пищу давно уже ходившим слухам о любовной связи Леонардо с Джокондой.
Правда смерти, как это всегда бывает в первую минуту, казалась невероятною.
Но в тот же вечер узнал он все: на возвратном пути из Калабрии, где мессер Франческо выгодно устроил дела свои, между прочим, поставку сырых бараньих шкур во Флоренцию, – в маленьком глухом городке Лагонеро, мона Лиза Джоконда умерла, одни говорили, от болотной лихорадки, другие – от заразной горловой болезни.
VII