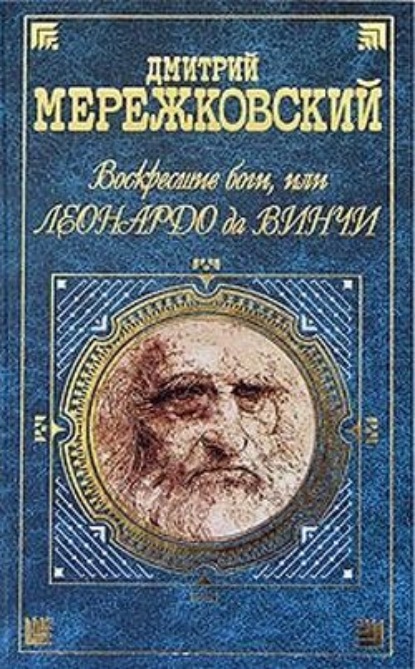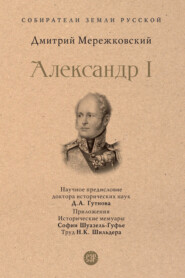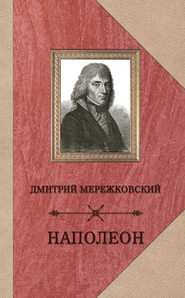По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А мона Кассандра по-прежнему смотрела на него в упор своими ясными, прозрачными глазами; в это мгновение была она действительно похожа на злополучную пленницу Агамемнона, вещую деву Кассандру.
– Джованни, – прибавила она, немного помолчав, – слышал ли ты о человеке, который, более десяти веков назад, так же как философ Плетон, мечтал воскресить умерших богов, – об императоре Флавии Клавдии Юлиане?
– Об Юлиане Отступнике?
– Да, о том, кто врагам своим галилеянам и себе – увы! – казался отступником, но не дерзнул им быть, ибо в новые мехи влил старое вино: эллины так же, как христиане, могли бы назвать его отступником…
Джованни рассказал ей, что видел однажды во Флоренции мистерию Лоренцо Медичи Великолепного, которая изображала мученическую смерть Сан-Джованни и Паоло, двух юношей, казненных за веру Христову Юлианом Отступником. Он даже помнил несколько стихов из этой мистерии, особенно поразивших его, – между прочим предсмертный крик Юлиана, пронзенного мечом св. Меркурия:
Ты победил, Галилеянин!
O Cristo Galileo, tu hai pur vinto!
– Слушай, Джованни, – продолжала Кассандра, – в странной и плачевной судьбе этого человека есть великая тайна. Оба они, говорю я, и кесарь Юлиан, и мудрец Плетон, были одинаково не правы, потому что обладали только половиной истины, которая, без другой половины, есть ложь: оба забыли пророчество Титана, что тогда лишь боги воскреснут, когда Светлые соединятся с Темными, небо вверху – с небом внизу, и то, что было Двумя, будет Едино. Этого не поняли они и тщетно отдали душу свою за богов Олимпийских…
Она остановилась, как будто не решалась договорить, и потом прибавила тихо:
– Если бы ты знал, Джованни, если бы могла я сказать тебе все до конца!.. Но нет, теперь еще рано. Пока скажу одно: есть бог среди богов олимпийских, который ближе всех других к подземным братьям своим, бог светлый и темный, как утренние сумерки, беспощадный, как смерть, сошедший на землю и давший смертным забвение смерти – новый огонь от огня Прометеева – в собственной крови своей, в опьяняющем соке виноградных лоз. И кто из людей, брат мой, кто поймет и скажет миру, как мудрость венчанного гроздьями подобна мудрости Венчанного Терниями, – Того, Кто сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза», и так же, как бог Дионис, опьяняет мир Своею кровью? Понял ли ты, о чем я говорю, Джованни? Если не понял, молчи, не спрашивай, ибо здесь тайна, о которой еще нельзя говорить…
В последнее время у Джованни явилось новое, дотоле неведомое дерзновение мысли. Он ничего не боялся, потому что ему нечего было терять. Он чувствовал, что ни вера фра Бенедетто, ни знание Леонардо не утолят муки его, не разрешат противоречий, от которых душа его умирала. Только в темных пророчествах Кассандры чудился ему, быть может, самый страшный, но единственный путь к примирению, и по этому последнему пути он шел за нею с отвагою отчаяния.
Они сходились все ближе и ближе.
Однажды он спросил ее, зачем она притворяется и скрывает от людей то, что ей кажется истиной?
– Не все – для всех, – возразила Кассандра. – Исповедание мучеников, так же как чудо и знаменье, нужно для толпы, ибо лишь те, кто верит не до конца, умирают за веру, чтобы доказать ее другим и себе. Но совершенная вера есть совершенное знание. Разве ты думаешь, что смерть Пифагора подтвердила бы истины геометрии, открытые им? Совершенная вера безмолвна, и тайна ее выше исповедания, как учитель сказал: «Вы знайте всех, вас же пусть никто не знает».
– Какой учитель? – спросил Джованни и подумал: «Это мог бы сказать Леонардо: он тоже знает всех, а его никто».
– Египетский гностик Базилид, – отвечала Кассандра и объяснила, что гностиками – знающими называли себя великие учителя первых веков христианства, для которых совершенная вера и совершенное знание было одно и то же.
И она поведала ему странные, иногда чудовищные, подобные бреду, сказания.
Особенно поразило его одно из них – учение александрийских офитов, змеепоклонников, о создании мира и человека.
«Надо всеми небесами есть Мрак безымянный, недвижный, нерождаемый, прекраснее всякого света. Отец Непознаваемый, – Бездна и Молчание. Единородная дочь его, Премудрость божия, отделившись от отца, познала бытие и омрачилась, и восскорбела. И сын ее скорби был Иальдаваоф, созидающий бог. Он захотел быть один и, отпав от матери, погрузился еще глубже, чем она, в бытие и создал мир плоти, искаженный образ мира духовного, и в нем человека, который должен был отразить величие создателя и свидетельствовать о его могуществе. Но помощники Иальдаваофа, стихийные духи, сумели вылепить из персти только бессмысленную громаду плоти, пресмыкавшуюся, как червь, в первозданной тине. И, когда привели ее к царю своему, Иальдаваофу, дабы вдохнул он в нее жизнь, – Премудрость божия, сжалившись над человеком, отомстила сыну свободы и скорби своей за то, что он отпал от нее, и вместе с дыханием плотской жизни через уста Иальдаваофовы вдохнула в человека искру божественной мудрости, полученной ею от отца Непознаваемого. И жалкое создание – перст от персти, прах от праха, на котором творец хотел показать свое всемогущество, стало вдруг неизмеримо выше своего создателя, сделалось образом и подобием не Иальдаваофа, а истинного бога, отца Непознаваемого. И поднял человек из праха лицо свое. И творец, при виде твари, вышедшей из-под власти его, исполнился гнева и ужаса. И устремил свои очи, горевшие огнем поедающей ревности, в самые недра вещества, в первобытную черную тину – и там их мрачный пламень и все лицо его, полное ярости, отразилось, как в зеркале, и этот образ сделался Ангелом Тьмы, Змеевидным, Офиоморфом, ползучим и лукавым, Сатаною – Проклятою Мудростью. И с помощью его создал Иальдаваоф все три царства природы и в самую глубь их, как в смрадную темницу, бросил человека и дал ему закон: делай то и то, не делай того и, ежели преступишь закон, смертью умрешь. Ибо все еще надеялся поработить свою тварь игом закона, страхом зла и смерти. Но Премудрость божия, Освободительница, не покинула человека и, возлюбив, возлюбила его до конца, и послала ему Утешителя, Духа Познания, Змеевидного, Крылатого, подобного утренней звезде, Ангела Денницы, того, о ком сказано: „Будьте мудры, как змеи“. И сошел он к людям и сказал: „Вкусите и познаете, и откроются глаза ваши, и станете как боги“.
– Люди толпы, дети мира сего, – заключила Кассандра, – суть рабы Иальдаваофа и Змея лукавого, живущие под страхом смерти, пресмыкающиеся под игом закона. Но дети Света, Знающие, гностики, избранники Софии [46 - Софи я – премудрость (греч. ).], посвященные в тайны Премудрости, попирают все законы, преступают все пределы, как духи – неуловимы, как боги – свободны, крылаты, добром не возвышаются и остаются чистыми во зле, как золото в грязи. И Ангел Денницы, подобный звезде, мерцающей в утренних сумерках, ведет их сквозь жизнь и смерть, сквозь зло и добро, сквозь все проклятия и ужасы Иальдаваофова мира к Матери своей, Софии Премудрости, и через нее – в лоно Мрака безымянного, царящего над всеми небесами и безднами, недвижного, нерождаемого, который прекраснее всякого света, в лоно Отца Непознаваемого.
Слушая это предание офитов, Джованни сравнивал Иальдаваофа с Кронионом, божественную искру Софии с огнем Прометеевым, Змия благого, Ангела светоносного – Люцифера со скованным Титаном.
Так, во всех веках и народах – в трагедии Эсхила, в сказаниях гностиков, в жизни императора Юлиана Отступника, в учении мудреца Платона – находил он дальние, родные отголоски великого разлада и борьбы, наполнявших его собственное сердце. Скорбь углублялась и утишалась сознанием того, что за десять веков люди уже страдали, боролись с теми же «двоящимися мыслями», погибали от тех же противоречий и соблазнов, как он.
Бывали минуты, когда он просыпался от этих мыслей, как от тяжелого опьянения или горячечного бреда. И тогда казалось ему, что мона Кассандра притворяется сильной и вещей, посвященною в тайну, а в действительности так же ничего не знает, так же заблудилась, как он: оба они – еще более жалкие, потерянные и беспомощные дети, чем двенадцать лет назад, и этот новый шабаш полубожественной-полусатанинской мудрости – еще безумнее, чем шабаш ведьм, на который некогда звала она его и который теперь презирала, как забаву черни. Ему делалось страшно, хотелось бежать. Но было поздно. Сила любопытства, подобно наваждению, влекла его к ней, и он чувствовал, что не уйдет, пока не узнает всего до конца, – спасется или погибнет вместе с нею.
В это время приехал в Милан знаменитый доктор богословия, инквизитор фра Джорджо да Казале. Папа Юлий II, встревоженный слухами о небывалом распространении колдовства в Ломбардии, отправил его с грозными буллами. Сестры монастыря Маджоре и покровители, бывшие у моны Кассандры во дворце архиепископа, предупреждали ее об опасности. Фра Джорджо был тот самый член Инквизиции, от которого мона Кассандра и мессер Галеотто едва успели бежать из Рима. Они знали, что если бы еще раз попались ему в руки, то никакое покровительство не могло бы их выручить, и решили скрыться во Францию, а ежели надо будет, – дальше: в Англию, Шотландию.
Утром, дня за два до отъезда, Джованни беседовал с моной Кассандрою, по обыкновению в рабочей комнате ее, уединенной зале дворца Карманьола.
Солнце, проникавшее в окна сквозь густые черные ветви кипарисов, казалось бледным, как лунный свет; лицо девушки – особенно прекрасным и неподвижным. Только теперь, перед разлукой, понял Джованни, как она ему близка.
Он спросил, увидятся ли они еще раз и откроет ли она ему ту последнюю тайну, о которой часто говорила.
Кассандра взглянула на него и молча вынула из шкатулки плоский четырехугольный прозрачно-зеленый камень. Это была знаменитая Tabula Smaragdina – изумрудная скрижаль, найденная будто бы в пещере близ города Мемфиса в руках мумии одного жреца, в которого, по преданию, воплотился Гермес Трисмегист, египетский Ор, бог пограничной межи, путеводитель мертвых в царство теней. На одной стороне изумруда вырезано было коптскими, на другой – древними эллинскими письменами четыре стиха:
Ourano anw ourano catw
Astera anw astera catw
Pan anw pau touto catw
Tautc labe cai estsce
Небо – вверху, небо – внизу,
Звезды – вверху, звезды – внизу.
Все, что вверху, все и внизу, —
Если поймешь, благо тебе.
– Что это значит? – сказал Джованни.
– Приходите ко мне ночью сегодня, – проговорила она тихо и торжественно. – Я скажу тебе все, что знаю сама, слышишь, – все до конца. А теперь, по обычаю, перед разлукой выпьем последнюю братскую чашу.
Она достала маленький круглый, запечатанный воском глиняный сосуд, из тех, какие употребляются на Дальнем Востоке, налила густого, как масло, вина, странно пахучего, золотисто-розового, в древний кубок из хризолита, с резьбою по краям, изображавшей бога Диониса и вакханок, и, подойдя к окну, подняла чашу, как будто для жертвенного возлияния. В луче бледного солнца на прозрачных стенках оживились розовым вином, словно теплою кровью, голые тела вакханок, славивших пляской бога, венчанного гроздьями.
– Было время, Джованни, – молвила она еще тише и торжественнее, – когда я думала, что учитель твой Леонардо обладает последнею тайною, ибо лицо его так прекрасно, как будто в нем соединился бог олимпийский с подземным Титаном. Но теперь вижу я, что он только стремится и не достигает, только ищет и не находит, только знает, но не сознает. Он предтеча того, кто идет за ним и кто больше, чем он. Выпьем же вместе, брат мой, этот прощальный кубок за Неведомого, которого оба зовем, за последнего Примирителя!
И благоговейно, как будто великое таинство, она выпила чашу до половины и подала ее Джованни.
– Не бойся, – молвила, – здесь нет запретных чар. Это вино непорочно и свято: оно из лоз, растущих на холмах Назарета. Это – чистейшая кровь Диониса-Галилеянина.
Когда он выпил, она, положив ему на плечи обе руки с доверчивою ласкою, прошептала быстрым, вкрадчивым шепотом:
– Приходи же, если хочешь знать все, приходи, я скажу тебе тайну, которой никому никогда не говорила, – открою последнюю муку и радость, в которой мы будем вместе навеки, как брат и сестра, как жених и невеста!
И в луче солнца, проникавшем сквозь густые ветви кипарисов, бледном, точно лунном, – так же как в памятную грозовую ночь у Катаранской плотины, в блеске бледных зарниц, – приблизила к лицу его неподвижное, грозное лицо свое, белое, как мрамор изваяний, в ореоле черных пушистых волос, живых, как змеи Медузы, с губами алыми, как кровь, глазами желтыми, как янтарь.
Холод знакомого ужаса пробежал по сердцу Бельтраффио, и он подумал:
«Белая Дьяволица!»
III
В условленный час стоял он у калитки в пустынном переулке Делла Винья, перед стеной сада, окружавшего дворец Карманьола.
Дверь была заперта. Он долго стучался. Не отворяли. Подошел с другой стороны, с улицы Сант-Аньезе к воротам соседнего монастыря Маджоре, и узнал от привратницы страшную новость: инквизитор папы Юлия II, фра Джорджо да Казале, появился в Милане внезапно и велел тотчас схватить Галеотто Сакробоско, алхимика, и племянницу его, мону Кассандру, как лиц, наиболее подозреваемых в черной магии.
Галеотто успел бежать. Мона Кассандра была в застенках Святейшей Инквизиции.
Узнав об этом, Леонардо обратился с просьбами и ходатайствами за несчастную к доброжелателям своим, главному казначею Людовика XII Флоримонду Роберте и к наместнику французского короля в Милане Шарлю д’Амбуазу.
Джованни также хлопотал, бегал, носил письма учителя и ходил для разведок в Судилище Инквизиции, которое помещалось около собора, в Архиепископском дворце.