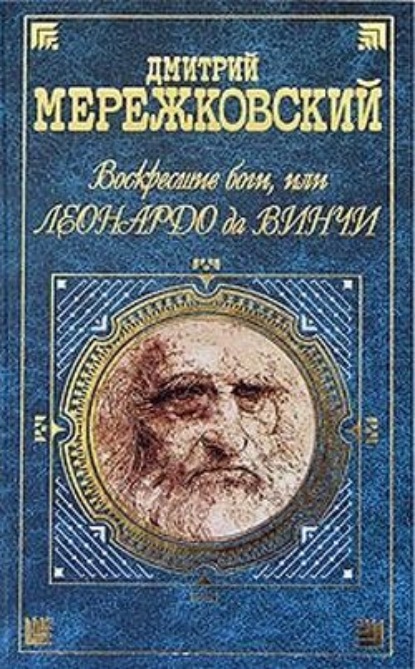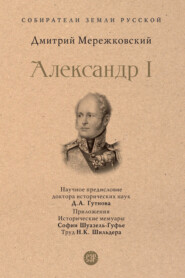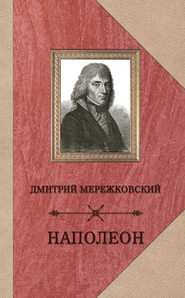По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Что правда, то правда, – думал дед. – Как волка ни корми, все в лес глядит. Ну да видно, воля Господня! В семье не без урода».
С нетерпением ждал старик, чтобы любимый сын Пьеро осчастливил его рождением законного внука, достойного наследника, ибо Нардо был как бы случайный подкидыш, воистину «незаконнорожденный» в этой семье.
Жители Монте-Альбано рассказывали об одной особенности тех мест, нигде более не встречающейся, – белой окраске многих растений и животных: тот, кто не видел собственными глазами, не поверил бы этим рассказам; но путнику, бродившему по Альбанским рощам и лугам, хорошо известно, что в самом деле попадаются там нередко белые фиалки, белая земляника, белые воробьи и даже в гнездах черных дроздов белые птенчики. Вот почему, уверяют обитатели Винчи, вся эта гора еще в незапамятной древности получила название Белой – Монте-Альбано.
Маленький Нардо был одним из чудес Белой горы, уродом в добродетельной и будничной семье флорентинских нотариусов – белым птенцом в гнезде черных дроздов.
V
Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, отец взял его из Винчи в свой дом во Флоренцию. С тех пор Леонардо редко посещал родину.
От 1494 года – в это время был он на службе миланского герцога – в одном из дневников художника сохранилась краткая и, по обыкновению, загадочная запись:
«Катарина прибыла 16 июля 1493 года».
Можно было подумать, что речь идет о служанке, принятой в дом по хозяйственной надобности. На самом деле это была мать Леонардо.
После кончины мужа, Аккаттабриги ди Пьеро дель Вакка, Катарина, чувствуя, что и ей остается жить недолго, пожелала перед смертью увидеть сына.
Присоединившись к странницам, которые отправлялись из Тосканы в Ломбардию для поклонения мощам св. Амвросия и честнейшему Гвоздю Господню, пришла она в Милан. Леонардо принял ее с благоговейной нежностью.
Он по-прежнему чувствовал себя с нею маленьким Нардо, каким, бывало, тайно ночью с босыми ножками прибегал и, забравшись в постель, под одеяло, прижимался к ней.
Старушка после свидания с сыном хотела вернуться в родное селение, но он удержал ее, нанял ей и заботливо устроил покойную келью в соседнем девичьем монастыре Санта-Кьяра у Верчельских ворот. Она заболела, слегла, но упорно отказывалась перейти к нему в дом, чтобы не причинить беспокойства. Он поместил ее в лучшей, построенной герцогом Франческо Сфорца, похожей на великолепный дворец больнице Милана – Оспедале Маджоре и навещал каждый день. В последние дни болезни не отходил от нее. А между тем никто из друзей, даже из учеников, не знал о пребывании Катарины в Милане. В дневниках своих он почти не говорил о ней. Только раз упомянул, и то вскользь, по поводу любопытного, как он выражался, «сказочного» лица одной молодой девушки, измученной тяжким недугом, которую наблюдал в то самое время, в той самой больнице, где мать его умирала:
«Giovannina – viso fantastico – sta, asca Catarina, all’ospedale» – «Джованнина – сказочное лицо, – спроси Катарину в больнице». Когда в последний раз прикоснулся он губами к ее холодеющей руке, ему казалось, что этой бедной поселянке из Винчи, смиренной обитательнице гор, обязан он всем, что есть у него. Он почтил ее великолепными похоронами, как будто Катарина была не скромной служанкой анкианского кабачка, а знатною женщиной. С такою же точностью, унаследованною от отца, нотариуса, с какою, бывало, без всякой нужды записывал цены пуговиц, серебряных галунов и розового атласа для нового наряда Андреа Салаино, записал и счет похоронных издержек.
Через шесть лет, в 1500 году, в Милане, уже после гибели Моро, укладывая вещи перед отъездом во Флоренцию, нашел он в одном из шкапов своих тщательно перевязанный небольшой узелок. Это был сельский гостинец, принесенный ему из Винчи Катариною, – две рубахи грубого серого холста, тканного ее собственными руками, и три пары чулок из козьего пуха, тоже самодельных. Он не надевал их, потому что привык к тонкому белью. Но теперь, вдруг увидев этот узелок, забытый среди научных книг, математических приборов и машин, почувствовал, как сердце наполнилось жалостью.
Впоследствии, во время долголетних, одиноких и унылых скитаний из края в край, из города в город, никогда не забывал он брать с собой ненужный, бедный узелок с чулками и рубахами, и каждый раз, пряча его от всех, стыдливо и старательно укладывал с теми вещами, которые были ему особенно дороги.
VI
Эти воспоминания проносились в душе Леонардо, когда по крутой, знакомой с детства тропинке он всходил на Монте-Альбано.
Под уступом скалы, где меньше было ветра, присел на камень отдохнуть и оглянулся: малорослые неопадающие корявые дубы с прошлогодними сухими листьями, мелкие пахучие цветы тускло-зеленого вереска, который здешние поселяне называли «скопа» – «метелка», бледные дикие фиалки, и надо всем неуловимый свежий запах, не то полыни, не то весны, не то каких-то горных неведомых трав. Волнистые горизонты уходили, понижаясь, к долине Арно. Направо возносились голые каменные горы с извилистыми тенями, змеевидными трещинами и серо-лиловыми пропастями. У самых ног его Анкиано белело на солнце. Глубже в долине к заостренно-круглому холму лепилось маленькое, похожее на осиный улей селение Винчи, с башнею крепости, такой же острою и черною, как два кипариса на Анкианской дороге.
Ничто не изменилось: казалось, вчера еще карабкался он по этим тропинкам; и теперь, как сорок лет назад, росла здесь обильная скопа и беловатые фиалки; сухо шелестели дубы сморщенными, темно-коричневыми листьями; сумрачно синело Монте-Альбано; и такое же все кругом было простое, тихое, бедное, бледное, напоминающее Север. А между тем сквозь эту тишину и бледность порой тонкая, едва уловимая прелесть благороднейшей в мире земли, некогда Этрурии, ныне Тосканы, вечно весенней земли Возрождения, сквозила, подобная странной и нежной улыбке в строгом, почти сурово-прекрасном лице молодой поселянки из Винчи, Леонардовой матери.
Он встал и пошел дальше круто подымавшеюся в гору тропинкою. Чем выше, тем холоднее и злее становился ветер.
Опять воспоминания обступили его – теперь о первых годах юности.
VII
Дела нотариуса сире Пьеро да Винчи процветали. Ловкий, веселый и добродушный, один из тех, у которых в жизни все идет как по маслу, которые сами живут и другим жить не мешают, – умел он ладить со всеми. В особенности лица духовного звания благоволили к нему. Сделавшись доверенным богатого монастыря Святейшей Аннунциаты и многих других богоугодных учреждений, сире Пьеро округлял свое имущество, приобретал новые участки, дома, виноградники в окрестностях Винчи, не изменяя прежнего скромного образа жизни, согласно с житейской мудростью сире Антонио. Только на украшения церквей охотно жертвовал и, заботясь о чести рода, положил могильную плиту на семейную гробницу Винчи во Флорентинской Бадии.
Когда умерла первая жена его, Альбьера Амадори, быстро утешившись, тридцативосьмилетний вдовец женился на совсем молоденькой прелестной девушке, почти ребенке, Франческе ди сире Джованни Ланфредини. Детей и от второй жены у него не было. В это время Леонардо жил с отцом во Флоренции, в нанимаемом у некоего Микеле Брандолини доме, на площади Сан-Фиренце, близ Палаццо Веккьо. Сире Пьеро намеревался незаконнорожденному первенцу своему дать хорошее воспитание, не жалея денег, чтобы, может быть, впоследствии, за неимением законных детей, сделать наследником – тоже, конечно, флорентинским нотариусом, как и все старшие сыновья в роде Винчи.
Во Флоренции жил тогда знаменитый естествоиспытатель, математик, физик и астроном Паоло даль Поццо Тосканелли. Он обратился к Христофору Колумбу с письмом, в котором вычислениями доказывал, что морской путь в Индию через страны антиподов не так далек, как предполагают, ободрял к путешествию и предрекал успех. Без помощи и напутствия Тосканелли Колумб не совершил бы своего открытия: великий мореплаватель был только послушным орудием в руках неподвижного созерцателя, – исполнил то, что было задумано и рассчитано в уединенной келье флорентинского ученого. В стороне от блестящего двора Лоренцо Медичи, от изящных и бесплодных болтунов-неоплатоников, подражателей древности, Тосканелли «жил, как святой», по выражению современников, – молчальник, бессребреник, постник, никогда не вкушавший от мяса, и совершенный девственник. Лицо имел безобразное, почти отталкивающее; только светлые, тихие и младенчески простые глаза его были прекрасны.
Когда однажды ночью в 1470 году постучался в двери дома его у палаццо Питти молодой незнакомец, почти мальчик, Тосканелли принял его сурово и холодно, подозревая в госте обычное праздное любопытство. Но, вступив в беседу с Леонардо, он, так же как некогда сире Биаджо да Равенна, поражен был математическим гением юноши. Сире Паоло сделался его учителем. В ясные летние ночи подымались они на один из холмов близ Флоренции, Поджо аль Пино, покрытый вереском, пахучим можжевельником и смолистыми черными соснами, где полуразвалившаяся от ветхости деревянная сторожка служила обсерваторией великому астроному. Он рассказывал ученику все, что знал сам о законах природы.
В этих беседах Леонардо почерпнул веру в новое, еще неведомое людям могущество знания.
Отец не стеснял его, только советовал выбрать какое-либо доходное занятие. Видя, что он постоянно лепит или рисует, сире Пьеро отнес некоторые из этих работ старому приятелю своему, золотых дел мастеру, живописцу и скульптору Андреа дель Вероккьо.
Вскоре Леонардо поступил к нему в мастерскую на выучку.
VIII
Вероккьо, сын бедного кирпичника, был старше Леонардо на семнадцать лет.
Когда с очками на носу и с лупой в руках сидел он за прилавком в полутемной мастерской – боттеге своей, недалеко от Понте Веккьо, в одном из тех старинных, покосившихся домиков, с гнилыми подпорками, стены которых купаются в мутно-зеленых водах Арно, – сире Андреа был скорее похож на обыкновенного флорентинского лавочника, чем на великого художника. Лицо имел неподвижное, плоское, белое, круглое и пухлое, с двойным подбородком; лишь в тонких, плотно сжатых губах и в пронзительно-остром, как игла, взоре крошечных глаз виден был ум, точный и бесстрашно любопытный.
Учителем своим Андреа считал древнего мастера Паоло Учелло. Рассказывали, будто бы, занимаясь отвлеченной математикой, которую он применял к искусству, и головоломными задачами перспективы, презренный и покинутый всеми, Учелло впал в нищету и едва не сошел с ума; целые дни проводил без пищи, целые ночи без сна; порой, лежа в постели с открытыми глазами в темноте, будил жену восклицанием:
– О, сколь сладостная вещь перспектива!
Умер осмеянный и непонятый.
Вероккьо, так же как Учелло, полагал математику общей основой искусства и науки, говорил, что геометрия, будучи частью математики – «матери всех наук», есть в то же время «мать рисунка – отца всех искусств». Совершенное знание и совершенное наслаждение красотою было для него одно и то же. Когда встречал он редкое по уродству или прелести лицо или другую часть тела человеческого, то не отворачивался с брезгливостью, не забывался в мечтательной неге, подобно таким художникам, как Сандро Боттичелли, а изучал, делал анатомические слепки из гипса, чего никто из мастеров не делал до него. С бесконечным терпением сравнивал, мерил, искал новой прелести – но не в чуде, не в сказке, не в соблазнительных сумерках, где Олимп сливается с Голгофою, как Сандро, а в таком проникновении в тайны природы, на какое не дерзал еще никто, ибо не чудо было для Вероккьо истиной, а истина – чудом.
В тот день, как сире Пьеро да Винчи привел к нему в мастерскую своего восемнадцатилетнего сына, участь обоих была решена. Андреа сделался не только учителем, но и учеником ученика своего, Леонардо.
В картине, заказанной Вероккьо монахами Валломброзы, изображавшей крещение Спасителя, Леонардо написал коленопреклоненного ангела. Все, что Вероккьо смутно предчувствовал и чего искал ощупью, как слепой, – Леонардо увидел, нашел и воплотил в этом образе. Впоследствии рассказывали, будто бы учитель, приведенный в отчаяние тем, что мальчик превзошел его, – отказался от живописи. На самом деле вражды между ними не было. Они дополняли друг друга: ученик обладал тою легкостью, которой природа не одарила Вероккьо, учитель – тем сосредоточенным упорством, которого недоставало слишком разнообразному и непостоянному Леонардо. Не завидуя и не соперничая, они часто сами не знали, кто у кого заимствует.
В это время Вероккьо отливал из меди Христа с Фомою для Орсанмикеле.
На смену райским видениям фра Беато и сказочному бреду Боттичелли, впервые, в образе Фомы, влагающего пальцы в язвы Господа, явилось людям еще небывалое на земле дерзновение человека перед Богом – испытующего разума перед чудом.
IX
Первым произведением Леонардо был рисунок для шелковой завесы, тканной золотом во Фландрии, подарка флорентинских граждан королю Португалии. Рисунок изображал грехопадение Адама и Евы. Коленчатый ствол одной из райских пальм изображен был с таким совершенством, что, по словам очевидца, «ум помрачался при мысли о том, как могло быть у человека столько терпения». Женоподобный лик демона-змея дышал соблазнительной прелестью, и, казалось, слышались слова его:
«Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».
И жена протягивала руку к дереву познания, с тою же улыбкою дерзновенного любопытства, с которой в изваянии Вероккьо Фома Неверный влагал персты свои в язвы Распятого.
Однажды сире Пьеро, по поручению соседа своего, поселянина из Винчи, услугами которого пользовался для рыбной ловли и охоты, попросил Леонардо изобразить что-либо на круглом деревянном щите, так называемой «ротелле». Подобные щиты с аллегорическими картинами и надписями употреблялись для украшения домов.
Художник задумал изобразить чудище, которое внушало бы зрителю ужас, подобно голове Медузы.
В комнату, куда никто не входил, кроме него, собрал он ящериц, змей, сверчков, пауков, сороконожек, ночных бабочек, скорпионов, летучих мышей и множество других безобразных животных. Выбирая, соединяя, увеличивая разные части их тел, образовал он сверхъестественное чудовище, не существующее и действительное, – постепенно вывел то, чего нет, из того, что есть, с такою же ясностью, с какой Евклид или Пифагор выводят одну теорему из другой.
Видно было, как животное выползает из расщелины утеса, и, казалось, слышно, как шуршит по земле кольчатым черно-блестящим скользким брюхом. Зияющая пасть выхаркивала смрадное дыхание, очи – пламя, ноздри – дым. Но всего изумительнее было то, что ужас чудовища пленял и притягивал, подобно прелести.
Целые дни и ночи проводил Леонардо в запертой комнате, где невыносимое зловоние издохших гадов так заражало воздух, что трудно было дышать. Но в другое время чрезмерно, почти изнеженно чувствительный ко всякому дурному запаху, теперь не замечал он его. Наконец объявил отцу, что картина готова и что он может взять ее. Когда сире Пьеро пришел, Леонардо попросил его подождать в другой комнате, вернулся в мастерскую, поставил картину на деревянный постав, окружил ее черной тканью, притворил ставни так, что один лишь луч падал прямо на ротеллу, и позвал сире Пьеро. Тот вошел, взглянул, вскрикнул и отступил в испуге: ему показалось, что он видит перед собой живое чудовище. Пристальным взором следя, как страх на лице его сменяется удивлением, художник молвил с улыбкой:
С нетерпением ждал старик, чтобы любимый сын Пьеро осчастливил его рождением законного внука, достойного наследника, ибо Нардо был как бы случайный подкидыш, воистину «незаконнорожденный» в этой семье.
Жители Монте-Альбано рассказывали об одной особенности тех мест, нигде более не встречающейся, – белой окраске многих растений и животных: тот, кто не видел собственными глазами, не поверил бы этим рассказам; но путнику, бродившему по Альбанским рощам и лугам, хорошо известно, что в самом деле попадаются там нередко белые фиалки, белая земляника, белые воробьи и даже в гнездах черных дроздов белые птенчики. Вот почему, уверяют обитатели Винчи, вся эта гора еще в незапамятной древности получила название Белой – Монте-Альбано.
Маленький Нардо был одним из чудес Белой горы, уродом в добродетельной и будничной семье флорентинских нотариусов – белым птенцом в гнезде черных дроздов.
V
Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, отец взял его из Винчи в свой дом во Флоренцию. С тех пор Леонардо редко посещал родину.
От 1494 года – в это время был он на службе миланского герцога – в одном из дневников художника сохранилась краткая и, по обыкновению, загадочная запись:
«Катарина прибыла 16 июля 1493 года».
Можно было подумать, что речь идет о служанке, принятой в дом по хозяйственной надобности. На самом деле это была мать Леонардо.
После кончины мужа, Аккаттабриги ди Пьеро дель Вакка, Катарина, чувствуя, что и ей остается жить недолго, пожелала перед смертью увидеть сына.
Присоединившись к странницам, которые отправлялись из Тосканы в Ломбардию для поклонения мощам св. Амвросия и честнейшему Гвоздю Господню, пришла она в Милан. Леонардо принял ее с благоговейной нежностью.
Он по-прежнему чувствовал себя с нею маленьким Нардо, каким, бывало, тайно ночью с босыми ножками прибегал и, забравшись в постель, под одеяло, прижимался к ней.
Старушка после свидания с сыном хотела вернуться в родное селение, но он удержал ее, нанял ей и заботливо устроил покойную келью в соседнем девичьем монастыре Санта-Кьяра у Верчельских ворот. Она заболела, слегла, но упорно отказывалась перейти к нему в дом, чтобы не причинить беспокойства. Он поместил ее в лучшей, построенной герцогом Франческо Сфорца, похожей на великолепный дворец больнице Милана – Оспедале Маджоре и навещал каждый день. В последние дни болезни не отходил от нее. А между тем никто из друзей, даже из учеников, не знал о пребывании Катарины в Милане. В дневниках своих он почти не говорил о ней. Только раз упомянул, и то вскользь, по поводу любопытного, как он выражался, «сказочного» лица одной молодой девушки, измученной тяжким недугом, которую наблюдал в то самое время, в той самой больнице, где мать его умирала:
«Giovannina – viso fantastico – sta, asca Catarina, all’ospedale» – «Джованнина – сказочное лицо, – спроси Катарину в больнице». Когда в последний раз прикоснулся он губами к ее холодеющей руке, ему казалось, что этой бедной поселянке из Винчи, смиренной обитательнице гор, обязан он всем, что есть у него. Он почтил ее великолепными похоронами, как будто Катарина была не скромной служанкой анкианского кабачка, а знатною женщиной. С такою же точностью, унаследованною от отца, нотариуса, с какою, бывало, без всякой нужды записывал цены пуговиц, серебряных галунов и розового атласа для нового наряда Андреа Салаино, записал и счет похоронных издержек.
Через шесть лет, в 1500 году, в Милане, уже после гибели Моро, укладывая вещи перед отъездом во Флоренцию, нашел он в одном из шкапов своих тщательно перевязанный небольшой узелок. Это был сельский гостинец, принесенный ему из Винчи Катариною, – две рубахи грубого серого холста, тканного ее собственными руками, и три пары чулок из козьего пуха, тоже самодельных. Он не надевал их, потому что привык к тонкому белью. Но теперь, вдруг увидев этот узелок, забытый среди научных книг, математических приборов и машин, почувствовал, как сердце наполнилось жалостью.
Впоследствии, во время долголетних, одиноких и унылых скитаний из края в край, из города в город, никогда не забывал он брать с собой ненужный, бедный узелок с чулками и рубахами, и каждый раз, пряча его от всех, стыдливо и старательно укладывал с теми вещами, которые были ему особенно дороги.
VI
Эти воспоминания проносились в душе Леонардо, когда по крутой, знакомой с детства тропинке он всходил на Монте-Альбано.
Под уступом скалы, где меньше было ветра, присел на камень отдохнуть и оглянулся: малорослые неопадающие корявые дубы с прошлогодними сухими листьями, мелкие пахучие цветы тускло-зеленого вереска, который здешние поселяне называли «скопа» – «метелка», бледные дикие фиалки, и надо всем неуловимый свежий запах, не то полыни, не то весны, не то каких-то горных неведомых трав. Волнистые горизонты уходили, понижаясь, к долине Арно. Направо возносились голые каменные горы с извилистыми тенями, змеевидными трещинами и серо-лиловыми пропастями. У самых ног его Анкиано белело на солнце. Глубже в долине к заостренно-круглому холму лепилось маленькое, похожее на осиный улей селение Винчи, с башнею крепости, такой же острою и черною, как два кипариса на Анкианской дороге.
Ничто не изменилось: казалось, вчера еще карабкался он по этим тропинкам; и теперь, как сорок лет назад, росла здесь обильная скопа и беловатые фиалки; сухо шелестели дубы сморщенными, темно-коричневыми листьями; сумрачно синело Монте-Альбано; и такое же все кругом было простое, тихое, бедное, бледное, напоминающее Север. А между тем сквозь эту тишину и бледность порой тонкая, едва уловимая прелесть благороднейшей в мире земли, некогда Этрурии, ныне Тосканы, вечно весенней земли Возрождения, сквозила, подобная странной и нежной улыбке в строгом, почти сурово-прекрасном лице молодой поселянки из Винчи, Леонардовой матери.
Он встал и пошел дальше круто подымавшеюся в гору тропинкою. Чем выше, тем холоднее и злее становился ветер.
Опять воспоминания обступили его – теперь о первых годах юности.
VII
Дела нотариуса сире Пьеро да Винчи процветали. Ловкий, веселый и добродушный, один из тех, у которых в жизни все идет как по маслу, которые сами живут и другим жить не мешают, – умел он ладить со всеми. В особенности лица духовного звания благоволили к нему. Сделавшись доверенным богатого монастыря Святейшей Аннунциаты и многих других богоугодных учреждений, сире Пьеро округлял свое имущество, приобретал новые участки, дома, виноградники в окрестностях Винчи, не изменяя прежнего скромного образа жизни, согласно с житейской мудростью сире Антонио. Только на украшения церквей охотно жертвовал и, заботясь о чести рода, положил могильную плиту на семейную гробницу Винчи во Флорентинской Бадии.
Когда умерла первая жена его, Альбьера Амадори, быстро утешившись, тридцативосьмилетний вдовец женился на совсем молоденькой прелестной девушке, почти ребенке, Франческе ди сире Джованни Ланфредини. Детей и от второй жены у него не было. В это время Леонардо жил с отцом во Флоренции, в нанимаемом у некоего Микеле Брандолини доме, на площади Сан-Фиренце, близ Палаццо Веккьо. Сире Пьеро намеревался незаконнорожденному первенцу своему дать хорошее воспитание, не жалея денег, чтобы, может быть, впоследствии, за неимением законных детей, сделать наследником – тоже, конечно, флорентинским нотариусом, как и все старшие сыновья в роде Винчи.
Во Флоренции жил тогда знаменитый естествоиспытатель, математик, физик и астроном Паоло даль Поццо Тосканелли. Он обратился к Христофору Колумбу с письмом, в котором вычислениями доказывал, что морской путь в Индию через страны антиподов не так далек, как предполагают, ободрял к путешествию и предрекал успех. Без помощи и напутствия Тосканелли Колумб не совершил бы своего открытия: великий мореплаватель был только послушным орудием в руках неподвижного созерцателя, – исполнил то, что было задумано и рассчитано в уединенной келье флорентинского ученого. В стороне от блестящего двора Лоренцо Медичи, от изящных и бесплодных болтунов-неоплатоников, подражателей древности, Тосканелли «жил, как святой», по выражению современников, – молчальник, бессребреник, постник, никогда не вкушавший от мяса, и совершенный девственник. Лицо имел безобразное, почти отталкивающее; только светлые, тихие и младенчески простые глаза его были прекрасны.
Когда однажды ночью в 1470 году постучался в двери дома его у палаццо Питти молодой незнакомец, почти мальчик, Тосканелли принял его сурово и холодно, подозревая в госте обычное праздное любопытство. Но, вступив в беседу с Леонардо, он, так же как некогда сире Биаджо да Равенна, поражен был математическим гением юноши. Сире Паоло сделался его учителем. В ясные летние ночи подымались они на один из холмов близ Флоренции, Поджо аль Пино, покрытый вереском, пахучим можжевельником и смолистыми черными соснами, где полуразвалившаяся от ветхости деревянная сторожка служила обсерваторией великому астроному. Он рассказывал ученику все, что знал сам о законах природы.
В этих беседах Леонардо почерпнул веру в новое, еще неведомое людям могущество знания.
Отец не стеснял его, только советовал выбрать какое-либо доходное занятие. Видя, что он постоянно лепит или рисует, сире Пьеро отнес некоторые из этих работ старому приятелю своему, золотых дел мастеру, живописцу и скульптору Андреа дель Вероккьо.
Вскоре Леонардо поступил к нему в мастерскую на выучку.
VIII
Вероккьо, сын бедного кирпичника, был старше Леонардо на семнадцать лет.
Когда с очками на носу и с лупой в руках сидел он за прилавком в полутемной мастерской – боттеге своей, недалеко от Понте Веккьо, в одном из тех старинных, покосившихся домиков, с гнилыми подпорками, стены которых купаются в мутно-зеленых водах Арно, – сире Андреа был скорее похож на обыкновенного флорентинского лавочника, чем на великого художника. Лицо имел неподвижное, плоское, белое, круглое и пухлое, с двойным подбородком; лишь в тонких, плотно сжатых губах и в пронзительно-остром, как игла, взоре крошечных глаз виден был ум, точный и бесстрашно любопытный.
Учителем своим Андреа считал древнего мастера Паоло Учелло. Рассказывали, будто бы, занимаясь отвлеченной математикой, которую он применял к искусству, и головоломными задачами перспективы, презренный и покинутый всеми, Учелло впал в нищету и едва не сошел с ума; целые дни проводил без пищи, целые ночи без сна; порой, лежа в постели с открытыми глазами в темноте, будил жену восклицанием:
– О, сколь сладостная вещь перспектива!
Умер осмеянный и непонятый.
Вероккьо, так же как Учелло, полагал математику общей основой искусства и науки, говорил, что геометрия, будучи частью математики – «матери всех наук», есть в то же время «мать рисунка – отца всех искусств». Совершенное знание и совершенное наслаждение красотою было для него одно и то же. Когда встречал он редкое по уродству или прелести лицо или другую часть тела человеческого, то не отворачивался с брезгливостью, не забывался в мечтательной неге, подобно таким художникам, как Сандро Боттичелли, а изучал, делал анатомические слепки из гипса, чего никто из мастеров не делал до него. С бесконечным терпением сравнивал, мерил, искал новой прелести – но не в чуде, не в сказке, не в соблазнительных сумерках, где Олимп сливается с Голгофою, как Сандро, а в таком проникновении в тайны природы, на какое не дерзал еще никто, ибо не чудо было для Вероккьо истиной, а истина – чудом.
В тот день, как сире Пьеро да Винчи привел к нему в мастерскую своего восемнадцатилетнего сына, участь обоих была решена. Андреа сделался не только учителем, но и учеником ученика своего, Леонардо.
В картине, заказанной Вероккьо монахами Валломброзы, изображавшей крещение Спасителя, Леонардо написал коленопреклоненного ангела. Все, что Вероккьо смутно предчувствовал и чего искал ощупью, как слепой, – Леонардо увидел, нашел и воплотил в этом образе. Впоследствии рассказывали, будто бы учитель, приведенный в отчаяние тем, что мальчик превзошел его, – отказался от живописи. На самом деле вражды между ними не было. Они дополняли друг друга: ученик обладал тою легкостью, которой природа не одарила Вероккьо, учитель – тем сосредоточенным упорством, которого недоставало слишком разнообразному и непостоянному Леонардо. Не завидуя и не соперничая, они часто сами не знали, кто у кого заимствует.
В это время Вероккьо отливал из меди Христа с Фомою для Орсанмикеле.
На смену райским видениям фра Беато и сказочному бреду Боттичелли, впервые, в образе Фомы, влагающего пальцы в язвы Господа, явилось людям еще небывалое на земле дерзновение человека перед Богом – испытующего разума перед чудом.
IX
Первым произведением Леонардо был рисунок для шелковой завесы, тканной золотом во Фландрии, подарка флорентинских граждан королю Португалии. Рисунок изображал грехопадение Адама и Евы. Коленчатый ствол одной из райских пальм изображен был с таким совершенством, что, по словам очевидца, «ум помрачался при мысли о том, как могло быть у человека столько терпения». Женоподобный лик демона-змея дышал соблазнительной прелестью, и, казалось, слышались слова его:
«Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло».
И жена протягивала руку к дереву познания, с тою же улыбкою дерзновенного любопытства, с которой в изваянии Вероккьо Фома Неверный влагал персты свои в язвы Распятого.
Однажды сире Пьеро, по поручению соседа своего, поселянина из Винчи, услугами которого пользовался для рыбной ловли и охоты, попросил Леонардо изобразить что-либо на круглом деревянном щите, так называемой «ротелле». Подобные щиты с аллегорическими картинами и надписями употреблялись для украшения домов.
Художник задумал изобразить чудище, которое внушало бы зрителю ужас, подобно голове Медузы.
В комнату, куда никто не входил, кроме него, собрал он ящериц, змей, сверчков, пауков, сороконожек, ночных бабочек, скорпионов, летучих мышей и множество других безобразных животных. Выбирая, соединяя, увеличивая разные части их тел, образовал он сверхъестественное чудовище, не существующее и действительное, – постепенно вывел то, чего нет, из того, что есть, с такою же ясностью, с какой Евклид или Пифагор выводят одну теорему из другой.
Видно было, как животное выползает из расщелины утеса, и, казалось, слышно, как шуршит по земле кольчатым черно-блестящим скользким брюхом. Зияющая пасть выхаркивала смрадное дыхание, очи – пламя, ноздри – дым. Но всего изумительнее было то, что ужас чудовища пленял и притягивал, подобно прелести.
Целые дни и ночи проводил Леонардо в запертой комнате, где невыносимое зловоние издохших гадов так заражало воздух, что трудно было дышать. Но в другое время чрезмерно, почти изнеженно чувствительный ко всякому дурному запаху, теперь не замечал он его. Наконец объявил отцу, что картина готова и что он может взять ее. Когда сире Пьеро пришел, Леонардо попросил его подождать в другой комнате, вернулся в мастерскую, поставил картину на деревянный постав, окружил ее черной тканью, притворил ставни так, что один лишь луч падал прямо на ротеллу, и позвал сире Пьеро. Тот вошел, взглянул, вскрикнул и отступил в испуге: ему показалось, что он видит перед собой живое чудовище. Пристальным взором следя, как страх на лице его сменяется удивлением, художник молвил с улыбкой: