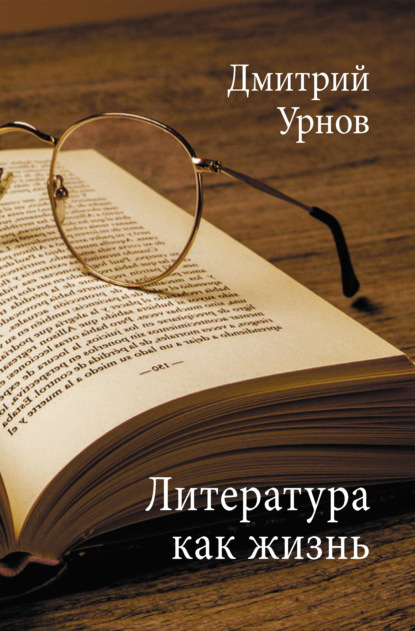По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литература как жизнь. Том II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После концерта Казимировна двинулась за кулисы, я за ней. Мы оказались с Менухиным лицом к лицу. Он встретил нас улыбкой. «Вы, как Моцарт», – произнесла Ливанова, по обыкновению оценивая артиста продуманной формулой. И вдруг улыбка сошла с лица виртуоза. «Ну, нет!» – содрогнулся скрипач, словно жрецу сказали, что он само божество. Судя по кино, так и скрипачи Русской Школы играли, преклонялись перед музыкой. В своих мемуарах виртуоз-пианист Артур Рубинштейн жалуется, что четыре выученика нашей консерватории смотрели на всех свысока, и на него в том числе. Жалобу Рубинштейна на собратьев-музыкантов, слишком, по его мнению, заносившихся, прочитал я гораздо позднее, много лет спустя, но когда прочитал, мне вспомнилась судорога, исказившая лицо музыканта при имени, которое нельзя произносить всуе. Шкала! Иерархия профессиональных представлений. «Достал до неба, стоя на плечах гигантов» (Ньютон). Виртуозы, смотревшие на всех свысока, ударили в смычки, когда в Карнеги Холл чествовали их общего учителя, австрийца Ауэра, который преподавал у нас пятьдесят лет (его гимназистом слышал Чехов), ради Ауэра нотные листы переворачивать на юбилейном концерте вызвался Рахманинов. Все, словно по команде «Смирно!», встали навытяжку перед музыкой. Когда Ауэр скончался, его, выкреста, отпевали в православной церкви. Рядом с гробом стоял рояль. После богослужения Иосиф Гофман исполнил Лунную сонату, затем играл Хейфец. Свидетель записал в дневнике: «Было прекрасно. Смысл музыки, благородство и глубина Бетховена, задушевность исполнителей… Какая одухотворенность, какая духовность! Я никогда не уважал так искусства, как в тот момент, никогда не казалось мне столь серьезным, нужным, важным. Нет, не найду слов, чтобы выразить свое впечатление», – это написал сын врача, на руках которого скончался Чайковский[10 - Из дневника С. Л. Бертенсона по кн. К. Аренский, Письма в Холливуд, Монтерей: Издание Аренсбургера, 1968, С. 113.].
«Что Чайковский, когда есть Стравинский», – сказал мне профессор-американец годы спустя. Он мне напомнил наших наездников, их мнение о «Белой лошади». Бутылку виски я привез в 1961-м, после Шекспировской конференции, у нас глушили табуретовку и – привыкли. Мастера призовой езды, осушив чистую как слеза ребенка «Белую лошадь», сказали: «Давай лучше черненькой дернем». Оценка виски нашими наездниками напоминает мне извращенность вкусов у современных ценителей музыки. Стравинский – крупнейшая из современных музыкальных репутаций, организованная сложным сговором по принципу избирательного сродства. Профессор, предпочитавший Стравинского – Чайковскому, напомнил мне голосование на партийном собрании тех же советских времен: «Кто за? – Кто против? – Воздержавшихся нет. Принято!». Профессор мне вернул непрочитанной «Семью» Нины Федоровой, книгу в лучших традициях русского романа. Думаю, и не пробовал читать: роман не числится ни в каком из списков обязательного чтения. У этого читателя, безусловно, уверенного в индивидуальной разборчивости своего вкуса, на самом деле вкуса нет, есть «нос по ветру». В колледже, где мы с женой вели занятия, один преподаватель попросил и вернул мне ролик с не просмотренным до конца фильмом по опере «Евгений Онегин». Он приложил любезную записку с объяснением недостаточной заинтересованности: «Слишком сладкая музыка». Допускаю, что про «Петрушку» или «Весну священную» он того бы не написал – восхищение Стравинским обязательно. Требуется нечто такое, продирающее, – вкус безнадежно изувечен псевдотворческой табуретовкой. Мои студенты, принимавшие за музыку умерщвляющий мозги грохот, а за пение – истошный вопль, певцов не слышавшие, если же я предлагал им послушать bel canto, оставались равнодушны к звукам музыки и поставленным голосам, говорили: «Неприятно слушать», и я вспоминал нашу вынужденную приученность к aqua vita из древесных опилок. Чайковского не упомянул в числе крупнейших композиторов музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», Чайковского нет в музыкальной иерархии, где Стравинский непременен согласно антимузыкальному принципу отбора, как в силу своего нелитературного вкуса составитель антологии рассказа не включил туда О. Генри. Таков извращенный демократизм: допустите всех! Ораторствуют лишенные речи, торжествуют лишенные музыкальности, канонизируют неспособных писать.
Стравинского я видел в Московской Консерватории на утренней репетиции с оркестром. Уговорил меня пойти Генька: у него был класс, сам он не мог пойти, но счел необходимым, чтобы я пошел и посмотрел на всемирную знаменитость нашего отечественного происхождения. Благодаря другу я взглянул в глаза ловкачу, который знает, что всех обманывает, умея убедить: «Я и есть музыка». Тогда я не знал, что Стравинский в 30-х годах, живя в Германии, исповедуя blut und boden, зов крови и почвы, напрашивался в нацисты. Полосуют Ивана Ильина за то, что читал лекции о русской культуре в гитлеровской Германии, а фигурам типа Стравинского, организуемым, все сходит с рук, организаторам они нужны, составляя с ними систему взаимозависимости. В них вкладывают – они отрабатывают за оказанную поддержку, их успех становится знаменем, под которое становится множество участников-единомышленников. Единодушие устанавливается по мере отбора людей соглашательского вкуса и материального интереса, они видят выгоду для себя в присоединении к союзу бездуховных душ. Союзничество распространяется на всю творческую сферу. О. Генри не попал в число мастеров рассказа, которых составитель антологии отбирал согласно своему вкусу, он включил Набокова и других немастеров рассказывать занимательно. «Для меня на первом месте Малер», – говорила американская дама, наша с женой знакомая, Моцарт у неё был на втором месте.
Борьба на уничтожение со всем сущим, что Георг Лукач назвал в своей непопулярной книге «разрушением разума» – черта времени, охватившего полтора века, конец девятнадцатого и весь двадцатый. Наша знакомая, законодательница музыкальных вкусов и сама отчасти музыкантша, чтобы внедрять свои вкусы, закончила колледж с музыкальным уклоном. Она регулярно посещала концерты, поддерживала знакомства с людьми из мира оперы и балета. «Вчера я виделась с вдовой Кусевицкого… Моя дочь училась у Иглевского…» Она оказывала на музыку воздействие, вращалась в музыкальных кругах, где говорила «Малер!», подкрепляя свое мнение пожертвованиями на музыку, которую считала первостепенной. Моцарту она отводила место после Малера. Музыка в душе, о которой говорит Шекспир, у музыкальной дамы не звучала.
От Шекспира до Пушкина к нам дошло убеждение: главное в творчестве это мелодия – отзвук гармонии сфер, таинственная, ещё непознанная, но существующая связь художника-творца с миропорядком. Леон Альберти, теоретик и практик ренессансной архитектуры, создавая свои строительные проекты, добивался «музыкальной гармонии целого». Стало быть, даже камни, не говоря о музыкальных звуках и поэтических словах, должны слагаться в мелодию. Гений – одаренность особой чуткостью, ощущением своей связи со всем сущим, связи органической. Природа органики не познана, но кто из нас не чувствует, как тикают у нас в организме «биологические часы»? Талант позволяет человеку выразить причастность к миропорядку. Гений или талант – вдруг проступающая физически-духовная связь человека со всем окружающим. Та же связь или причастность получила разные названия. «Эолова арфа» – в мифологии, у Пушкина – «эхо», откликающееся и на «гад подводных ход», в конце концов (по ощущению) внушение свыше – на самом же деле – единоприродное, о чем ещё очень мало известно и потому считается чудом. Пророческие прозрения и минуты творческого вдохновения – это когда связь сказывается, а всё остальное время проходит «без божества, без вдохновения». Творчество извлекает из хаоса гармонию, любые другие звукосочетания – нетворческие. «Талант, что деньги, есть – есть, нет – нет». Нет другого искусства, нет и других гармоний, есть другие, немузыкальные манипуляции словами или звуками, но от Пятой Симфонии до «Энтертейнера», от «Танца маленьких лебедей» до «Твиста» – все мелодично.
Приносил я на занятия магнитофон с отбором звукозаписей, начиная с та-та-татааа Пятой Симфонии. А студенты, для которых родоначальник твиста Чебби Чеккер – седая старина, не могли мне напеть своих «любимых песен», потому что их песни лишены мелодии. Шлягеров сейчас нет, шлягер – навязчивая мелодия. «Прицепляется», – определил Григорий Мачтет, наслушавшийся шлягеров в Америке конца девятнадцатого века. Ныне в мире, полном звуков, нет ничего вроде «Чая на двоих», мотива, который служит позывными уже скоро сто лет. Мелодии не умирают, набор негармоничных звуков уходит вместе с модой. За пределами гармонии искусства нет, держится гармония мелодией, мелодия – звуковое воплощение истины. Нет мелодии – нет истинности.
Разве не ценят Малера музыканты? Прислушайтесь, за что ценят. «Он производит впечатление своей религиозностью» – говорит Бруно Вальтер, один из крупнейших дирижеров 30-х годов, и как он говорит, можно услышать и увидеть: снято на кинопленку. Религиозность – жанр. Религиозная музыка может быть плохой музыкой. Когда же дирижер говорит о Моцарте, лицо его озаряется, как светится человек, читающий символ веры: «Моцарт – воплощение музыкально-прекрасного». Позднее Бруно Вальтер дал ещё одно интервью, тоже снятое на кинопленку, он сменил галс под бременем возраста и под нажимом публики, которая платит и соответственно предпочитает музыку по себе, у них на первом месте – Малер. На этот раз дирижер рассказывал о развитии своих музыкальных вкусов. Закончил Малером и даже Брукнером, совершенной немузыкальностью. Что привлекло его к двум последним именам, я не разобрал. Во всяком случае, слов вроде «музыкально-прекрасного» не было.
Музыки Брукнера я не слышал, когда слушал и смотрел второе интервью Бруно Вальтера, потом прочитал: «Произведения Брукнера своими диссонансами, внезапными модуляциями и блуждающими гармониями помогли сформировать современный музыкальный радикализм». Для меня это повод огласить свое кредо: я не против музыкального радикализма и не против Малера, не против того, чтобы предпочитать его Моцарту, кому что нравится. Кому нравится современный музыкальный радикализм, что ж, пусть нравится. Я против приписывания музыкантам, писателям и художникам особенностей, каких у них нет. Есть диссонансы, значит, диссонансы. Зачем немузыкальное сочетание звуков называть музыкой? Мы с Романом на Шекспировской конференции слышали речь Пристли: непоэтичной стала современная поэзия, наиболее значительной считается неудобочитаемая литература, неизобразительность живописи принята за само собой разумеющееся достоинство. Это – начало шестидесятых. С тех пор стены Белого Дома оказались увешаны полотнами нашего соотечественника Теодора Ротко – абстрактного экспрессиониста, не изображавшего даже пятен, а только проводившего полосы. Ротко умирал уязвленный непризнанностью, себя он считал величайшим живописцем всех времен. Общая черта радикальных разрушителей: сами себя считают… Величайшим архитектором называл себя Ричард Райт, прототип остервенело самомнящего Говарда Рорка из романа Айн Рэнд. Достижение Ричарда Райта будто бы заключается в умении слить проектируемые им здания с природой, на самом же деле вторжением конструкций Ричарда Райта природа уродуется и разрушается. Мой старый приятель, талантливый актер, утверждал, что прийдя в гости, можно ради шутки на праздничный стол наделать, только умеючи. Возводящие сами себя в гении не умеют. Умеют делать наоборот – предсказал Гиюсманс принцип самоутверждения нашего времени. На вкус и на цвет товарищей нет, и на любые вкусы находится потребитель. Видел я наклейку «НЕСОЛЕНАЯ СОЛЬ», уж не говоря о декафинированном кофе и безалкогольном пиве. Это – продукты специального назначения, ими пользуются, заведомо зная, что не содержится в них тех свойств, что делают соль соленой, кофе бодрящим, а пиво пьянящим, знают, что это подделка и сознательно поддаются обману. Иногда это – самоограничение, вынужденное нездоровьем, иногда – вкус, причем воинственный. Кто слушает немузыкальную музыку, нуждается в сочувствующих и потому – агрессивен, настаивая, что это есть музыка, которую следует слушать. Но другой музыкальности и другой художественности не существует, как нет другой жизни. Проявляется жизнь в разных формах, всё та же жизнь. Разные стили едины в органической основе, но из-за угасания больших идей в искусство вторглась мертвечина: угасание прежних доблестей – признак упадка империи.
Юрка в Суриковском
«И наша песнь – как фимиам священный
Пред алтарем Богини Красоты…»
Владимир Соллогуб.
…Юрка учился в Суриковском, Юрий Львович Чернов (1935–2007) – скульптор, Нар. Художник РСФСР. В детстве они, три брата, остались сиротами: отец, комсомольский ответработник, был репрессирован, мать рано умерла, вырастила их тетка, сестра матери, фамилию дал им друг отца. С братьями прошла наша юность, жили они уже самостоятельно – голодновато и среди пустых стен. Итак, Юрка в Суриковском. Их наставник, государственный скульптор Томский, съездил в Париж, когда поездка за границу равнялась полету на Луну, посетил Лувр, вернулся и (Юрка рассказывал) говорит: «Ну, что ж, ребята, зашел я Венере со спины и вижу, сколько же ещё там работы для скульптора!» Ребята смеялись про себя, мы Юркиному рассказу смеялись открыто. Помня Юркин рассказ, спустя двадцать пять лет попал я в Лувр. Не арьергардно, а фронтально подойдя к Венере Милосской, не то увидел, что ожидал. Обработка классики, вопрос не пустой. Классика не идеал, а образец однажды достигнутого.
Многозначительный факт, о котором услышал я впервые от Л. Д. Громовой-Опульской, когда она занималась изданием русских классиков и работа над текстами составляла её повседневный труд. Толстой, сказала Лидия Дмитриевна, не оставил «последней воли». Последняя воля – вариант, который автор больше уже не правит. У «Войны и мира» окончательного варианта нет, Толстой продолжал «колупать», как выражался его верный друг и редактор Страхов, и до сих пор редакторы, занимаясь подготовкой толстовской эпопеи к очередному изданию, вынуждены решать под свою ответственность, какой из вариантов считать отвечающим толстовскому замыслу. То же самое – «Гамлет». Последней шекспировской воли никто не знает, рукописей не сохранилось, но во времена Шекспира трагедия вышла в трёх изданиях, друг от друга отличающихся. Шекспировед Аникст, защищая докторскую диссертацию, определил: «В одном издании Гамлет – стоик, в другом – скептик». И каждое новое издание «Гамлета» – сочетание трёх текстов, составленное на свой страх и риск редактором.
Толстой, необычайно ценивший Диккенса, считал возможным его излагать по-своему. Чехов, ради упражнения для себя, пробовал редактировать Толстого. Мировая литература состоит из пересказов «старых историй», на взгляд из другого времени нуждающихся в осовременивании. «Современные сюжеты» – явление сравнительно недавнее, долго сохранялась традиция преданий, передаваемых с незапамятных времен, истории старые, выдержавшие проверку временем и, стало быть, правдивые, но правда могла быть обновлена, сделана понятной и занимательной для публики новых времен.
В рассказе Глеба Успенского «Выпрямила!» повествуется о том, как сельский учитель, вроде моего Деда Васи, попал в Париж, тоже пошёл в Лувр, подошел к той же статуе и увидел не то, что ожидал. Прежде всего увидел расхождение со стихами Фета. Поэт воспел Венеру, кажется, прежде чем увидел статую, – создал образ женской прелести, образ барочный, не античный. А безрукая Венера была антиком, Богиней своего времени. Тяжелая, с большими ступнями, угловатая фигура, поистине из камня вытесанные, неженственные черты лица. Сейчас рядом с нами, на Университетском Авеню, за углом, в греческом кафе поварихой крупная, костистая тетка, вылитая Венера. Кому сказать, кто поверит? Она сама не верит. «Вы же Венера!» – говорю ей. «Какая я Венера?» – она удивляется. Её дочь слышать не хочет, что она и есть Елена Прекрасная: сошла с росписи на древней вазе, и зовут её Еленой. Отец – живой Сократ, курносый грек до турецкого вторжения. «Я грек, но не Сократ», – упирается отец. Узнавать себя в греках эти греки отказываются, а древние греки не узнали бы себя в наших о них представлениях. О нетленно-белом пели наши поэты при мысли об олимпийцах, а греки раскрашивали и украшали статуи.
Время «отбило руки и головы», как говорил Луначарский, смыло краску, повытаскивало из глаз драгоценные камни, растащило золотые одеяния, разрушило старину и сотворило из обломков и развалин идеал белоснежной античности. Но у современника, у Платона, говорится о «раскрашивании статуи», однако в русском переводе вместо статуи поставлена картина, соответственно нет и пояснения. В переводе английском статуя есть, пояснения нет. В американском переводе статуя оставлена, в примечании сказано – раскрашивали. И что? Ничего. Между тем Сократ, согласно Платону, рассуждал о том, как, раскрашивая статую, подбирать краски, говорил о гармонии цветов, а мы древнегреческую гармонию представляем себе без красок. Принимаемое нами за античность – не в самом деле древность, называемое классикой – обломки древности, заново сложенные в гармонию другого времени. Из тех проблем, что начни думать, и мозги лопнут.
Основоположники искусствознания и учредители представлений о классике, Винкельман и Лессинг друг с другом спорили, но единодушно исходили из беломраморной античности. Шедшие за ними беспрекословно верили в бесцветно-строгий облик древности, и когда стало известно, что статуи раскрашивали, даже поклонник древних, Маркс, не уделил преображению специального внимания. Михаил Лифшиц лишь упомянул – раскрашивали. Наставник братьев Бахтиных, античник Фаддей Зелинский во всеоружии новейшей учености ни словом о том не обмолвился, хотя подчеркивал, что мы понимаем античность по-своему[11 - В серии лекций «Древний мир и мы» Фаддей Зелинский мимоходом упомянул о том, что герои греческой мифологии, «прошедши через горнило всемирной истории […] потеряли то случайное и условное, то земное, можно сказать, которое им было свойственно вначале». Стоило ему задержаться на «земном» начальном, и весь курс, пожалуй, пришлось бы читать иначе, ибо по ходу курса Зелинский характеризует Ахилла и Эдипа, Антигону и Медею такими, какими они стали, пройдя «через горнило всемирной истории», а не такими, какими они были изначально. См. Ф. Зелинский. Из жизни идей. Петроград, 1916, том 2, С.82. Репринтное изд. «Ладомир», 1995.]. Искусствовед-энциклопедист В. Г. Власов, упомянув раскраску как само собой разумеющуюся, в пояснения не вдавался. Попадались мне ещё замечания на этот счет и ни одного исследования, словно знающие и понимающие уклонялись от проблемы. Надежный кинопопуляризатор Майкл Вуд (участник Московского Молодежного фестиваля) признал: «Античность – наше собственное создание». Преображение признано, а выводы? «К этому надо привыкнуть», – в учебном фильме советует оксфордский профессор, стоя между двух статуй: Афина классическая и Афина рекоструированная. Попробуй привыкни, если известная нам античная статуя в первозданном виде являет образец того, что нас учили считать варварством. Привыкнуть к древности, несовместимой с нашими представлениями о древности, которой нас учили? Говорят, Роден бил себя в грудь, восклицая: «Во мне живет убеждение, что статуи были бесцветны!»
Господство строгого рисунка над колоритом стали считать признаком классики со времен «Истории искусства древности» Винкельмана, на исходе XVIII столетия, однако наш современник, автор учебника по истории живописи, скульптуры и архитектуры заявил в конце века двадцатого: «Ничего нет дальше от реально-сти»[12 - Frederick Hartt. Art. History of painting, sculpture, and architecture. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 3rd. ed. 1989, p. 138.]. Причем, и основоположник, и наш современник сами себе противоречили практически. Винкельману попалась раскрашенная статуя, а он сыграл Дон-Кихота, отказавшегося проверять прочность старых доспехов, – нашел, что статуя негреческая, хотя впоследствии оказалась греческой. Автор современного учебного пособия себя не обманывал, но после своего решительного заявления продолжал излагать материал, включая иллюстрации, как будто всё так и было, как завещано Винкельманом.
Однако молчать, как видно, больше нельзя и недавно в журнале «Нью-Йоркер» появился обширный обзор воззрений и споров, считать ли по-прежнему древние мраморы бесцветными или во всеуслышание объявить красочными[13 - Margaret Talbot, “Color blind”, The New-Yorker, October 29, 2018, pp. 44–51. В содержательной и хорошо написанной статье озадачивает описательная деталь, не имеющая отношения к теме статьи, но, надо сказать, подобные описания попадаются в самых различных статьях – внешность и одежда собеседника автора, в данном случае – университетского профессора, ведущего курс античного искусства: «Ему сорок пять лет, он высок, худощав, на нем модный темного цвета костюм и узкий цветастый галстук» (р.49) Какое отношение фасон и цвет костюма, а также форма и расцветка галстука имеют к раскраске древних статуй? Но те же детали попадаются почти непременно без всякой видимой связи с каким угодно текстом: одержимость бытом, хотя в глазах наших соотечественников американский быт налажен настолько, что его можно не замечать. Однако студенты, слушавшие у моей жены курс «Американский и русский роман», выразили ей претензию, что она вела занятия в одном и том же платье два дня подряд! Очевидно, следовало демонстрировать, что у неё ещё немало платьев, ведь бутлегер Джей Гэтсби, пробиваясь на вершину социального успеха, считал нелишним похвастаться количеством рубашек.]. Признание, само собой, вызовет радикальный пересмотр и создаст немало проблем и теоретических и практических. «Что же их опять раскрашивать?» Сравнимо с расщеплением атома, неделимого, а в быту неделимого продолжают называть атомом, хотя делимость неделимого давным-давно установлена. Похоже и на вторжение в ньютонианскую физику квантовой теории, которую отказывался безоговорочно принять сам Эйнштейн.
«Древность когда-то была современностью».
Коллингвуд.
Нас с моим старшим соучеником по Университету Виктором Балашовым послали встречать Тито. Виктора – от издательства «Советский писатель», где после Университета стал он работать редактором, а меня от Института Мировой литературы, где я работал вместе с его отцом Петром Степановичем, корреспондентом Шона О’Кейси и знатоком жизни и творчества Бернарда Шоу, П. С. был так предан предмету изучения, что заслужил прозвище «Балашоу». Балашов-младший с университетских лет занимался литературой французской, но также интересовался русской историей, русским искусством и вообще отечественной стариной.
В ожидании высокого гостя стояли мы с Виктором на Большом Каменном Мосту. Через реку прямо напротив нас развернулся Кремлевский Дворец. Кортеж задерживался, и от нечего делать мы озирали окрестности и без того нам знакомые. Виктор, глядя на Дворец, стал деконструировать архитектурный памятник. Вот, говорит, это пришло из Византии, а это – из Италии… Архитектурный образ, нерасторжимый в моем сознании, начал распадаться. Хотел Виктора спросить, не мешает ли ему смотреть на классику чрезмерная осведомленность, но тут мимо нас, совсем рядом, поехал открытый лимузин, на заднем сидении помещался грузный старик, при маршальских регалиях и с лицом бабьим (как мне показалось), он приветствовал нас, слегка приподнимая кисть руки в полуспущенной перчатке. Едва миновала нашу группу торжественная процессия, мы с Виктором поспешили по своим делам. Вопрос, который я собирался ему задать, у меня из головы вытолкнули разнообразные заботы, но в памяти остался шрам от «разрушения» архитектурного ансамбля, мне казавшегося неделимым.
Всю жизнь ходил я по мосту, поглядывал то на эмблемы советской «Статуи Свободы», то на правительственное дворище, поглядывал, понятия не имея, что государственный центр нашего акрополя, если присмотреться, – из Византии, из Италии, не упомню сколько всех «из» перечислил Виктор, усвоивший принципы историзма раньше меня.
Так мешает или не мешает знание? Неведение простительно, если не знают все. Руссо призывал вернуться к воображаемой невинности естественного состояния, когда доисторические времена оставались неизучены. Но вот американец Джон Таннер непреднамеренно испытал естественность на себе и – поспешил вернуться к цивилизации, какая бы она ни была. Читавший записки Таннера Пушкин счел идеал естественности утраченным. По мере изучения и обретения знания незнание становится недопустимым. Положим, до сих пор существуют люди, убежденные, будто земной шар не шар, а плоскость, многие, очень многие верят в буквальный смысл библейской книги Бытия и единовременный акт творения земной тверди и живых существ, но вера не нуждаются в обосновании, а раскраска статуй – факт известный, пусть не сразу установленный.
Не только читатели книги Винкельмана, но и сам Винкельман не знал древнегреческих подлинников, находившихся в Турции, он жил и работал в Италии, изучая римские копии, отвечавшие его представлениям о беломраморной скульптуре. Капитализм раздвинул национальные границы и в своих интересах оплатил раскопки, поскольку возник рынок антиков, и к 40-м годам девятнадцатого столетия уже стало очевидно, как выглядели древнегреческие статуи на самом деле. Почему же сразу не пересмотрели сложившихся представлений? Потому что на основе превратных представлений уже развились целые области полезных знаний. Гегелевская диалектика вышла из ошибочного чтения сократовского слова, означающего – спор, прения, а из диалектики Гегеля вышло дальнейшее движение систематической исторической мысли. Гегелевскую философию истории и пересматривали, и поправляли, и преодолевали, но сохраняли пресловутое «зерно» – представление о прогрессе как поступательном движении ценой обретений и потерь. Беломраморная античность Винкельмана явилась источником и основой величайших творческих достижений. А раскрасьте «Давида» – и получится пошлость. Так и говорили о попытках вернуть антикам утраченные цвета.
Непридуманное двоемыслие есть идущая от Винкельмана традиция, сыгравшая большую роль в развитии искусства Нового Времени, и есть постоянно уточняемая история древности. Знание того, как в реальности на самом деле было, не упраздняет плодотворных заблуждений, тех заблуждений, что оказались способны стимулировать познание. Восходы и закаты солнца возбуждали и будут возбуждать воображение, хотя это и не восходы и не закаты. Мы шестиклассниками воспротивились педантизму «географички», которая, пытаясь внушить нам пользу от преподаваемого ею предмета, взялась рассуждать о том, насколько безграмотно говорить о погоде хорошая или плохая, тепло, холодно, тихо или дует ветер, надо указывать, сколько градусов и если дует – то нордост. Мы не возражали против нордоста, мы говорили нордост, говорили широта и долгота, если вспоминали, что мы прочли у Жюль Верна, но нам градусы не требовались, если мы решали идти или нет гонять в футбол.
«Классика – изучаемое в классах».
Из толкового словаря.
«Классика и литературный процесс» – такую тему, годы спустя, пробовал я предложить для одного из наших совместных с американцами проектов. Наша сторона, в лице молодой дамы, только что защитившей диссертацию, пожала плечами: «Это для библиографов». Для библиографов?! Мы с вами, называемые историками литературы, принимаем одно за другое, полагая, что классика и есть процесс, а вместо процесса рассматриваем его остаток. Как раз когда мы с американцами обсуждали наши планы, журнал Американской Ассоциации Современной Словесности перепечатал классическую в своем роде статью социолога Георга Зиммеля об изучении потока литературы. Перепечатали, чтобы напомнить, какой ширины и глубины поток и сколько средств потребовалось бы на его изучение! Поэтому, я думаю, американцы в ответ на мое предложение заняться процессом даже плечами не пожали, а просто промолчали: никто под такой проект грант не даст, а раз не дадут, так и говорить не о чем. Будем говорить, как говорили: процесс, подразумевая остаток процесса – классику.
Словом «классик» сейчас бросаются. «Вы, – говорят нашему современнику, – классик!» А современник и не спорит. Да, соглашается, классик я. Кто же дал право судить sub specie aeternitatis, от лица вечности? Даже если нам кто-то и кажется бессмертным, подождите, наше представление ещё будет, и не раз, пересмотрено. Классикой признавалось прошедшее проверку временем. Что означала эта проверка? Прочитанное в течение длительного срока множеством читателей разных вкусов и поколений, а в итоге пережившее всевозможные пристрастия и уцелевшее в границах читательского кругозора после неоднократных переоценок. Классика – оставшееся от литературного процесса, как от потока, не унесенное приливом и отливом, устоявшее перед накатом и откатом волн: тяжелые камни, осевшие на берегу в «песках времен». Время перечитывает, редактирует, извлекает из небытия и предает забвению. Возникают названия нечитанные, и происходит перегруппировка литературных величин.
Где был при жизни Андрей Платонов, где был Булгаков? Цензура мешала признать значительным литературным явлением того и другого, но препятствие наибольшее – инерция преобладающего вкуса. У непонимания свои причины, мы не понимаем и даже понятия не имеем о том, чего мы не понимаем в текущем литературном процессе. От последующих поколений нам достанется, как взыскиваем мы с поколений предшествующих. От расправы не уйти, обругают за то, что нам думалось. Всё же можно заведомо смягчить удары, формулируя наши мнения как можно старательнее.
Самообман утверждать, будто классическое произведение бессмертно целиком. Есть произведения поистине вечные, на них откликаются, словно они сейчас написаны, в город Верону все ещё приходят письма, адресованные Ромео и Джульетте. Но иногда уце-левает не всё произведение, а лишь фрагмент: повесть «Манон Леско» из многотомных «Записок кавалера де Грие». Ещё чаще в памяти читателей живет лишь строка, а подчас, хотя и непомеркшая, но уже бессловесная слава, память о произведении, а не само произведение. Недавно подошёл к библиотечной полке, чтобы сверить цитату из вольтеровских английских очерков, в том числе о Шекспире, передо мной выстроились восемнадцать фолиантов в кожаных переплётах полного собрания сочинений классика, некогда царившего над умами. Хотел я один том взять и не смог, все восемнадцать слиплись в единый блок, видно, с полки их уже давным-давно не снимали, вот и затвердели, вроде книжного надгробия на библиотечной могиле классика. «Чем больше его почитают, тем меньше читают», – сказал Вольтер о Данте и стал жертвой собственного каламбура.
«Прошло вольтерьянство, пройдет и ницшеанство», – предсказывал Фаддей Зелинский. У нас на глазах прошли и формализм, и структурализм и даже постструктурализм успел пройти. «Сейчас, – сказал мне начитанный болгарин, архитектор Костя Мрянков, – интереснее читать о старых книгах, чем сами книги». Форма многих известных уже только по названию произведений устарела, суть свежа, однако до сути добраться нелегко, поэтому и предпочтительно старательное изложение. Читаю Блаженного Августина и нахожусь в растерянности: понять не в силах, а доступные мне изложения или истолкования оригиналу не соответствуют. Оригинал не понимаю, а изложение, мне понятное, говорит не о том, что читаю в оригинале, и это – естественно, давних времен оригинал истолкователь читает глазами своего времени.
Классика – возвышающийся над поверхностью литературного океана пик айсберга, а под водой опустившиеся на дно произведения высокопрофессиональные и даже талантливые. Специалисты, и те не имеют полного представления о том, что там, под водой. Сужу по себе: читаю письма и прочие литературные материалы классиков, отечественных и зарубежных. В их переписке и дневниках попадаются имена и названия, какие они, ставшие классиками, называют «прекрасными» и даже «великими», но я ничего не читал из потока литературы, унесенной прочь. Между тем ставшие классиками были, как современники, погружены в поток, казавшееся им прекрасным воздействовало на них и отразилось в их творчестве. Не будущим классикам подражали – они подражали, а я, читая их произведения, принимаю отражения за оригинал. «У гениев множество подражателей», – говорит Джордж Генри Льюис, биограф Гете. Но и гении подражали, затмевая тех, кому они подражали, но-таки подражали. «Некий классик сказал», – мы цитируем, а классик только пересказал, полемически, а что было им пересказано, мы не знаем и не чувствуем остроты полемики. Шекспир переделывал старые пьесы, переделывали и его пьесы, но созданные Шекспиром переделки живут, а переделки пьес Шекспира не выдержали испытания временем.
Ещё когда, идя впереди своего времени, шекспировед Иван Александрович Аксенов (Оксенов) выпустил книгу о «Гамлете» – una quasi fantasia, полунаучная беллетристика, написанная на основе больших знаний о том, что Шекспир только и делал, что заимствовал. Во времена Аксенова использование чужих текстов называлось «ци-татностью», теперь называют межтекстуальностью. В историческом подходе есть крайности, как были крайности в романтической идее Штирнера о «единственном» и «неповторимом», но в принципе бесспорно: в индивидуальном творчестве участвует окружение. Идеи, темы, сюжеты, приемы составляют достояние общелитературное, пока не будут упорядочены и за кем-то закреплены «лучшие слова в наилучшем порядке». В лучшем проявляется индивидуальность, но подыскиваются слова и порядок устанавливается общими усилиями, что признавал ещё Мольер, а в наше время, заимствуя мысль Реми де Гурмона, формулировал Элиот: «Великие поэты крадут».
«Литература есть [не] прерывно эволюционирующий ряд», – так значится в работе «Литературный факт» Юрия Тынянова, его колебания показывают незавершенность поисков в развитии литературы животворной единицы, подобной клетке в эволюции от простейших существ до человека. У меня есть словарь повествовательных приемов, которым однако пользуюсь редко: нет в словаре исторических сведений о том, кто первым применил тот или иной прием. «История изобретений в текстильной промышленности в значительной степени разрушает героическую теорию изобретений, теорию об идее, внезапно сверкнувшей в одном гениальном уме», – экономист Гобсон, которому принадлежат эти слова, подсчитал: «прялка Дженни», ткацкий станок, совершивший переворот в текстильном производстве и начавший Индустриальную Революцию, имела не меньше восьмисот (800) предшественников[14 - Джон А. Гобсон. Развитие современного капитализма. Машинное производство. Москва-Ленинград: Госиздат. 1926, С. 77.]. На пути к литературным достижениям попыток было совершено не меньше, чем в развитии науки и техники. Скажем, «поток сознания», характерный для литературы ХХ века, намечается у Шекспира, приемом пользовался Толстой, непосредственным предшественником Джойса была забытая Дороти Ричардсон, «скучный, но упорный экспериментатор». Шекспира изучили до последней строки, обнаружив его зависимость от современников и прийдя к выводу, что сочетал он формы готовые. Моцарт, пишет историк музыки, не изобрёл каких-либо новых форм. И я не знаю великих писателей, которые бы являлись изобретателями-первооткрывателями, зато великие писатели были великими читателями, они вычитывали приёмы у ныне забытых новаторов, применяя их с такой содержательной выразительностью, что кажется, будто они и открыли приёмы и формы, а они, как Дефо или Диккенс, завершители.
Теперь это называют «манипуляцией готовыми формами», и выводят «смерть автора», индивидуального творца. В самом деле, почти никто из великих не изобрел новых форм, используя готовые формы, но как используя! А литературные первопроходцы оказываются забыты, как безвестные герои. Кто такой Джон Дантон? Для читателя «Необычайных приключений Робинзона Крузо» вопрос столь же праздный и ненужный, как для водителя автомашины спрашивать, кто изобрел двигатель внутреннего сгорания. А это ему, Джону Дантону, не его приятелю Дефо, все писатели должны платить подати за использование им, Джоном Дантоном, открытой и освоенной повествовательной техники правдоподобного вранья. Читатель этого может и не знать, но биограф не имеет права называть, как до поры до времени я называл создателя «Приключений Робинзона Крузо» первым, способным лгать достовернее правды. Называл, пока не обнаружил, что Дефо использовал, подсказанную ему игру не идущими к делу подробностями, что, где, когда, благодаря чему мы верим, что ни скажет Робинзон.
Пушкина мы называем первым: первым написал, первым осознал, первым ввел… А был он, если не последним, то одним из многих в преемственной цепи, но единственный великий. Пушкин и Шекспир в свое время писали так же, как все, только лучше всех. Пушкин, по его словам, ударил по наковальне русского стиха, и все стали писать хорошо, однако наковальня была ему подготовлена, чтобы ударить с необычайной силой. Этот coup de grace, решительный удар, после многих приступов наносится итоговой идеей, сверкнувшей в гениальном уме.
В прозе среди зарубежных современников Пушкин предпочел Бальзаку – Альфонса Карра. Кто такой Карр? Томашевский обратил внимание на него: небездарный романист, чтение которого не прошло бесследно для Пушкина. Не владея французским, чтобы прочитать восхитивший Пушкина роман «Под липами», я получил представление о романе из работы В. А. Мильчиной. У неё приведены обширные цитаты, достаточные, чтобы увидеть повествовательные особенности, заметные и в пушкинской прозе.
Забывая слова Достоевского о том, что «словом байронист браниться нельзя», у нас бранятся именем Байрона. По ходу реставрационной переоценки низводят его до поп-звезды своего времени. Забыли или не знают расстановку творческих величин согласно тогдашней табели о творческих рангах. Кто на рубеже XVIII–XIX столетий считался у англичан своего рода «поп-звездой»? Законодатель мод и манер Бо Браммель – не Байрон. Принижающие поэтического властителя дум пушкинского времени не живут Байроном, в отличие от самого Пушкина. Не нам судить современников, у нас в сознании нет «властелина дум» той поры, а читателям первой трети века наш поэт напоминал Байрона. Чехов, читатель конца века, прочитавший байроновского «Дон Жуана» и ещё чувствующий настроения пушкинской эпохи, пишет: «Волшебная штука. В этой громадине всё есть: и Пушкин, и Толстой, и даже Буренин…».
Не хватает у меня знаний, чтобы написать о полемической перекличке Гамлета с Лютером, по-моему, слышной в «Быть или не быть». Почему именно с Лютером? Ведь принц Датский – студент немецкого протестантского университета, где профессорствовал Лютер. «Есть вещи на земле и небе, друг Горацио, которые и не снились нашей философии», той, что их учили протестанты. Гамлет критически проверяет свои знания, и это ключ к его основному монологу и всей трагедии. По тексту пьесы установлено, что Гамлет читал Цицерона, Ювенала, Монтеня, не исключено, я думаю, читал и Лютера. В шекспировские времена трактаты Лютера переводились, переиздавались и, подобно злободневным проповедям Смита, популярнейшего автора шекспировских времен, распространялись и пользовались спросом. Протестантизм воинствовал, крайние из протестантов – пуритане, были врагами театра. Шекспир и сделал своим персонажем молодого человека, усомнившегося в протестантских поучениях.
У меня знаний написать об этом недостаточно, потому что в студенческие годы я перешекспирил самого Шекспира: он мало изучал латынь, а я ещё меньше, прямо сказать – совсем чуть-чуть. Предлагаю взяться за тему новейшим шекспирологам, ныне, не в пример нашим временам, не только изучение мертвых языков, но знание богословия и средневековой философии поощряется и вызывает интерес у любознательной молодежи, которая сможет почитать Лютера. К сожалению, читанное мной из нового о Шекспире чересчур напоминает ненаучную фантастику. Зачем за Шекспира домысливать и воображать? Не лучше ли, следя за мыслями великого человека (как предлагал Пушкин, за ним и знающие пушкинисты следовали тому же принципу), уловить ход шекспировской мысли, а не тех мыслей, что были общими в шекспировские времена, и, конечно, не мысли, вдруг приходящие нам с вами в голову.
Права бывала критика ставшего классикой. У Шекспира попадается безграмотность и безвкусие, что отмечал образованный драматург-современник Бен Джонсон, однако именно он, «удивительный Бен», назвал Шекспира «душой века». Как же так – безграмотность выразившего дух века? Но это и есть критическая дискриминация, определяющая границы дарования: безграмотное – безграмотно или бездарно даже у гения, а что гениально, то гениально. Стендаль и Джеймс Фенимор Купер указывали на недостатки Вальтера Скотта, оказавшего на них огромное влияние. Нелепости Купера перечислил Марк Твен, который благодаря Куперу создал Тома Сойера и Гека Финна. Промахи Пушкина, признавая его гениальность, отмечали Булгарин с Бароном Брамбеусом и Белинский с Писаревым. Время подтверждает и жизнеспособность раскритикованных литературных явлений, ставших классикой. Но надо ли в порядке пересмотра прежних оценок принимать неудачу за удачу, слабости за силу?
У Венеры руки то ли отбиты, то ли было так задумано. Если рук нет согласно замыслу – одно, утрачены – совсем другое. Замысел «Повестей Белкина» остается загадкой, «Робинзон Крузо», по замыслу, аллегория Английской Революции, «Война и мир» – «удушение революционной гидры». Кто с мыслью об этом читает эпохальные произведения? И прочесть нельзя: замыслы не выражены художественно. Две книги Владимира Владимировича Ермилова о Толстом – это изложение и разбор не того, что мы читаем в романе «Война и мир», а тщательный анализ замысла, не удавшегося, согласно признанию самого Толстого[15 - См. В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир», Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1951; Он же. «Толстой-романист. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». Москва: «Художественная литература», 1965.]. Это всё равно, что объяснять символику «Приключений Робинзона Крузо» – важно и нужно для изучающих книгу, но не для тех, кто читает её. Всякие пояснения – докука для читателя, вторжение даже не другого жанра, а другого рода занятия, проявление повествовательного бессилия автора, оказавшегося неспособным рассказывать. Читают в «Робинзоне Крузо» не замысел, а попутно возникшее и получившееся лучше задуманного – морские приключения вместо Большого бунта, как называют англичане свою революцию.
«Прекрасно играют, но…».
Чехов о «Дяде Ване» во МХАТе.
Есть классика и есть традиция истолкования классики, с классикой соперничающая, крупнейший пример – постановки чеховских пьес в Московском Художественном театре. Чехов и восхищался, и возмущался постановками, признавая: прекрасно играют, но не то, что он написал. Проницательный пониматель, которому я дал прочитать записки Деда Бориса о хождении Чехова туда-сюда во время премьеры «Вишневого сада», с одного взгляда понял, в чем дело: писатель беспокоился – зачарованные театральным представлением не поймут, что же он в самом деле хотел показать[16 - П. В. Палиевский. Русские классики. Опыт общей характеристики (1987).].
Отдавая должное ошеломляющему успеху Художественного театра, Чехов до конца своих дней сокрушался: играют не то! В чеховских письмах повторяется, когда речь идёт о бесспорно прекрасных спектаклях: не то, не то, не то… Чехова не тревожила утрата вишневых садов – свидетельство Максима Ковалевского говорит о том, насколько мхатовцы играли нечто другое. Попробовали бы они не играть щемящего чувства утраты вишневого сада! Сотрудники ИМЛИ, изучавшие творческую историю чеховских пьес и составлявшие академический комментарий к ним, отдавали себе отчет в различиях между текстом и театральным представлением, некоторые полагали, что «отдаление от Чехова» преуменьшало социальную и политическую злободневность его драматических произведений[17 - Всеволод Александрович Келдыш считал, что «Художественный театр помог отдалению от Чехова». См. его кн. «Русский реализм начала ХХ века», Москва: «Наука», 1975, С. 190.]. Что поделаешь, если с показом социальной и политической злободневности автор потерпел неудачу! А без отдаления не было бы театра Чехова, как без беломраморной античности не возникли бы скульптурные творения Микельанджело. Альтернативные «если бы» – пустопорожнее умствование. Что сделано, то сделано – говоря любимым выражением Маркса из «Парижских тайн».