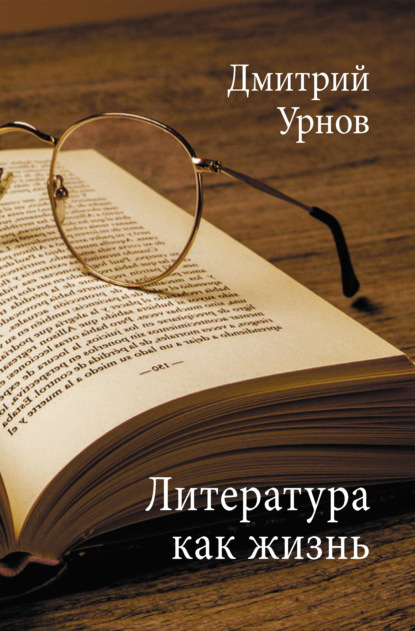По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литература как жизнь. Том II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Д. Д. Благой требовал, чтобы пушкинский памятник перенесли на прежнее место. Перенесем, ему ответили, только вы подпишите согласие на снос Дома Фамусова. Благой умолк. А подписал Заместитель Председателя Общества Охраны памятников. В поезде, в доверительном разговоре со мной, активистом Общества, он оправдывался, что нет доказательств ценности Дома Фамусова. Заместителю будто бы говорили, что весь тот дом возле кинотеатра «Центральный» можно увешать мемориальными досками в память тех, кто там бывал, однако ответа на его просьбу предложить хотя бы одну документально обоснованную доску он не получил и подписал снос, а Пушкина на прежнее место передвигать он не обязывался.
Курчавая голова на фоне неба, старый скрипач, воробьи, всё было узнаваемо для меня у Платонова, но читать его в первый раз, после войны, попробовал и бросил. Отец постоянно приносил с работы вышедшие книги, и среди них оказалась небольшая, довольно тощая, со странно-грустным по тем временам названием «В сторону заката солнца». Открыл книгу, и первая же страница одновременно поразила и оттолкнула. Поразила серьезностью тона, оттолкнула причудливой надуманностью слога.
Уже после университета, в конце пятидесятых, вместе со Стаськой Рассадиным, оказались мы в ресторане ЦДЛ за одним столом с кем-то, превозносившим не кого иного, как Андрея Платонова. Мы лишь приближались к литературному миру и понятия не имели о том, что за апологет. Час был обеденный, ресторан полон, усадили нас за стол, где уже сидели двое. Они не обратили на нас никакого внимания, заняты были разговором между собой. Особенно этот говорун, Борис Ямпольский, как удалось установить впоследствии, сотрудник Платонова в годы войны по газете «Красная звезда». Он даже ещё возвысил голос и провозгласил, словно хотел, чтобы его слышал весь переполненный зал. «Какие это писатели?! – было сказано в литературном общепите. – Платонов – вот писатель». Высказавшийся подкрепил свое мнение ссылкой на официально и неофициально признанный авторитет уже покойного Эм. Казакевича, жестом показал, как сталинский лауреат взвешивает на руке платоновскую рукопись, не изданную, и произносит: «Бессмертие!». Мы со Стаськой начали свой обед, когда те двое уже заканчивали, но мы их обогнали, проглотили, едва замечая, что жуем, и припустились каждый в свою служебную библиотеку. Стаська бросился на второй этаж там же, в ЦДЛ, передо мной через полчаса, пока добрался я до Дзержинского, в книжном собрании ИМЛИ стояли первоиздания Платонова. Судя по формулярам, платоновские книги были мало читаны: почти не интересовались Платоновым наши исследователи.
Жители платоновской Ямской слободы, безусловно, вышли всё с той же Растеряевой улицы. Социально и по возрасту Андрей Платонов вроде моих дедов, человек из той же среды и того же времени, а по дедушкам своим я знаю, что значил для них Глеб Успенский. Попали растеряевцы в революционную ломку, и советский писатель запечатлел их. Платоновские персонажи своим отношением к бытию и мирозданию напоминали моего собственного отца: образование и умственный труд не вытравили в нём народной созерцательности. Для него, вечно занятого, высшим удовольствием была возможность не делать ничего, а так, смотреть в небо, следя за полётом облаков. Как-то мы с Братом Сашкой наблюдали целую платоновскую семью, они оказались нашими попутчиками на пароходе, шедшем из Сочи в Керчь: выводок несчитанных детей, усталая от жизни мать и задумчивый папаша, вроде нашего, смотревший в небесную синь. «Ты хоть бы поучил их!» – с упрёком обратилась к мужу жена. Послушно и безучастно, не отрывая взора от небес, самозабвенный глава семейства махнул рукой, легкими подзатыльниками пройдясь по головам своих, ему самому неведомо скольких, отпрысков. «Платонов!» – чуть ли не разом крикнули мы с братом на всю палубу. Жизнь подражала платоновскому искусству, у него, как живые, получились наши нутряные экзистенционалисты.
Начитавшись повестей Андрея Платонова, прочитал я среди прочего, мне прежде недоступного, и «Красную новь» тридцать седьмого года со статьей Абрама Гурвича. Критик, мне казалось, проницательно прочёл писателя, раскрыв, что же сказывается в платоновской прозе, но, раскрыв, разнес, донес, оклеветал. С возрождением Платонова прижизненную критику по его адресу назвали травлей и взялись писать о Платонове восторженно, однако писали (и пишут) не о том, о чем у Платонова написано. В недавно изданных беседах Ивана Толстого с Борисом Парамоновым я наконец прочитал: в нападках на Платонова был смысл, были и не имеющие отношения к смыслу оргвыводы[25 - См. Борис Парамонов, Иван Толстой. Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова. Москва: Издательский дом Дело, 2017, С. 193–194.]. Разоблачители-доносчики называли вещи своими именами, но их верные выводы, обреченные на минус-бессмертие, являлись политическими поклепами.
«Все эти люди Платонова мертвы. Исчезающие эфемеры света и жизни в глазах, наполненных печалью мертвых, и рассыпавшиеся в прах кости – так описана Платоновым жизнь человека».
Из статьи А. Гурвича («Красная новь»,1937, № 10).
Конечно, буква должна убивать, критика обязана быть беспощадной, проникающей в суть сказавшегося у писателя. Писатели того не любят, и всякая сказанная о них правда, даже апологетическая, вызывает их неприязнь. Тургенев недоволен был лево-радикальной критикой, раскрывшей смысл его романов, он де не хотел сказать того, что говорили о его творениях Добролюбов, Антонович или Писарев, но что делать, хотел не хотел, а оно сказалось. Толстой был уязвлен критикой «Войны и мира», но ничего проницательнее статьи Шелгунова «Философия застоя» о романе не было сказано. Критики довыразили истину бессмертных произведений, между тем критика, обслуживающая или же толкующая на всевозможные лады невоплощенные и неудачные замыслы писателей – гелертерство, переливание из пустого в порожнее.
Отрицательная критика острее положительной – по этому пункту я соглашался с Чудаковым. Апологетика Платонова, что начала появляться у нас с шестидесятых годов, – похвалы, адресованные какому-то другому писателю, не тому, что некогда был проницательно проработан Гурвичем. Разносная статья явилась политическим доносом на писателя по меньшей мере несоветского. В то время, по обстоятельствам, если писать как следует, называя вещи своими именами, можно было написать только донос. Такова ситуация, похвала – ложь, поношение – правда. Критика наших времен не стала, как со времен Белинского была, судом над литературой. Ожесточение цензуры? Если ожесточение, кто же ожесточал? Вот это – главное, если понять советское время. Пока нельзя понять, и времена Белинского с этой стороны не изучены. Изучено, как запрещали Белинского или Чернышевского, не изучено, как разрешали, как публицистика по поводу литературы, совершенно очевидно подрывная, попадала в печать. Там – что, сидели дремлющие совы или либеральные агенты? Лифшиц говорит – по недомыслию. Остается признать слепоту суждения, о которой говорил Маркс, неизбежная ограниченность в силу закона «Не расти ушам выше лба». У последующих поколений, не подозревающих, что их постигнет та же участь, это получит презрительное наименование иллюзий и заблуждений. Но те же недогадливые надсмотрщики печати умнели и становились прозорливее, если судить по их мнениям, сохранившимся в дневниках, когда они уходили со службы. Либеральные агенты тоже были, но кто их посадил на должности охраняющих политическую обстановку в стране? Великие русские писатели оказались в положении консерватора Гегеля, который своей диалектикой вдохновлял революцию.
Критика советских времен должна была служить клейким веществом, связующим воедино едва сложившийся советский литературный мир, который на первых порах, на протяжении 1920-х, был схваткой за выживание между группировками, враждующими не на жизнь, а на смерть. В 30-х всех скрутили, чтобы перестали пожирать друг друга, и не могли не скрутить, ибо все происходило в отдельно взятой стране, окруженной желающими её сожрать, что и определяло обстановку внутри отдельной страны в отличие от остальных стран, где на литературную критику было плевать.
Почему в конце 30-х готовый к печати сборник статей Платонова не вышел? Расспрашивал я кого только мог, почему рассыпали набор, и все, как по команде, в один голос отвечали: «Известно, почему, потому что Пушкина поставил выше Горького». Известно… Горький, которого в это время уже не было в живых, мог явиться только поводом, на самом деле Платонов успел нажить себе врагов среди здравствующих, однако не очень хороших писателей, о которых он так и говорил в статьях, напечатанных в «Литературном критике». А чего иного ожидать? Писатели не терпят не только критики, они не выносят апологетики, если их хвалят мало или хвалят не за то, за что, писателям кажется, их следует хвалить.
К чему вела критика, Платонов испытал на себе. Наши критики задолго до советолога Симмонса делали вывод о враждебном отношении к советской действительности живущих в Советском Союзе писателей (правда, Платонова Симмонс не читал). Платонов в своих статьях не выдвигал политических обвинений, судил о собратьях профессионально, но всякая критика в то время означала нападки, поэтому нельзя было никакую критику оставлять без контрудара, не бывало критики без оргвыводов, вот, оберегая себя, и встали писатели на защиту покойного Алексея Максимыча. Платонов не мог опубликовать «Чевенгур» и «Котлован», когда другие публиковали «Кара-Бугаз» и «Время, вперед». Он стал сюрреалистом, когда его собратья по литературному цеху склонялись к неоромантизму, поэтизации непоэтического. Неоромантики конца XIX века, живописуя рыцарей наживы, создавали героический фон среднему сословию, советские неоромантики героизировали труд, в том числе, подневольный. А Платонов кое-кому из них советовал поменьше читать Джозефа Конрада. Каково им было это слышать?
Хочу ли я сказать, что некоторые признанные писатели могли поддержать Платонова и не поддержали, даже если верили в его бессмертие? Сказать это я, конечно, хочу, но хочу сказать не только это. Есть пределы всякой творческой способности вне зависимости от обстоятельств, потворствующих или препятствующих таланту, – мысль об этом мне подсказана Генри Льюисом и его жизнеописанием Гете. Платонов не исключение ни в истории литературы, ни в наше время. Удались ли ему большие вещи вне полемики, по высшему суду художника над собой? Засилье тирании или нехватка таланта – что мешало?
В архиве Луначарского увидел я не пошедшую в печать платоновскую верстку под названием «Ревзаповедник», отрывок из «Чевенгура», задолго до того, как роман стал нам доступен. К Луначарскому верстка попала с резолюцией Главного редактора «Нового мира» Вячеслава Полонского (цитирую по памяти): «Анатолий Васильевич, надо, наконец, разобраться в границах советской сатиры». Разобрались и не напечатали. И я не стал бы публиковать, но не потому что – сатира. Написано слабо. Оценив замысел (революция ради революции революционизирует самое себя и в конце концов обращается против себя), вернул бы автору на доработку: «Напишите, что задумали». У Платонова полно было замыслов, решения которым он, судя по сохранившимся наброскам, не нашел, даже если бы ему разрешили задуманное воплотить. После увлечения многообещающими фрагментами «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера» вернулся я к своему первоначальному впечатлению, какое в своё время не сумел бы определить: неполноценная величина. Платонов оказался, по-моему, неспособен написать то, что хотел бы написать, понимая больше того, что мог выразить по размерам своего дарования.
Встречавшие Платонова говорили – мрачный. Не только от людей старшего поколения приходилось слышать. Володя Амлинский, мой сверстник, видевший Платонова, говорил то же самое. Бросалась в глаза мрачность. Многое мучило Платонова в его личной жизни, и мало того, неопубликованные «Котлован» и «Чевенгур» оказались неудобочитаемыми, не удались ему, что не могло не угнетать его как писателя. А если сейчас заходятся от восторга, толкуя романы Платонова, так это профессиональные истолкователи, им, как правило, всё равно, читается текст или нет, им было бы, как говорил Сергей Бочаров, в чем поковыряться. Работа Бочарова оказалась исключением среди в точности говорящих не о том платоновских штудий, быстро расплодившихся в шестидесятых-семидесятых годах. Эта статья, написанная «Серегой» для коллективного труда о социалистическом реализме, была восторженно оценена Сучковым, только что начавшим директорствовать в ИМЛИ. «Прекрасно показано пробуждение дремучих мозгов!» – говорил новый наш директор и ставил всем нам бочаровскую статью в пример, как надо писать о социалистическом реализме, даже не употребляя самого понятия[26 - «Вещество существования» – Проблемы художественной формы социалистического реализма в 2-х тт. Том 2. Внутренняя логика и художественная форма, Москва, Наука, 1971.].
В замечательной статье не мог я принять исходного положения, как не мог у проникновенного истолкователя принять утверждений, когда он игнорировал всё, что в его истолкования не укладывалось. Задавал ему недоуменные вопросы при обсуждениях или ставил вопросительные знаки на полях. Сергей отвечал, уж не знаю, подражая или не подражая Бахтину, но так на возражения отвечал Михаил
Михайлович: «Это не мои проблемы». Платонов, писал Сергей, поражает читателя прежде всего языком. Нет, поражает, как всякий писатель, отношением к жизни. Конечно, язык создает это впечатление, но осознаешь, что отношение выражено особым языком, лишь в последнюю очередь. Что создано, а затем как создано: последовательность восприятия содержательной формы, иначе – маньеризм, «чистая», бессодержательная, форма. Сразу замечаешь язык при насилии над ним, как только начинается нарочитая стилизация, что у Платонова и происходит, когда он манерничает, восхищая апологетов, которые находят себе занятие в интерпретационно-аналитических упражнениях. Всякого писателя надо читать, а не вычитывать, словно в кабалистике, затаенный смысл.
Считаются у Платонова шедеврами «Джан» и «Фро». В них, действительно, обращаешь внимание на платоновскую фразу, называемую «колдовской», но ведь обращаешь внимание именно потому, что нарочито и тяжеловесно, обозначение переживаний без выражения. Фро – советских времен душечка, сравните с классическим первоисточником. А «Третий сын»? У Платонова чувственно-плотская природа слаба[27 - Борис Парамонов даже называет Платонова мизогином, женоненавистником («Бедлам как Вифлеем», С. 183). Как ни называй, бесполость сказывается.]. Нет ведь в рассказе тепла, это контур без наполнения. Сюда бы Лоуренса, создателя «Сыновей и любовников», которых Платонов мог читать пусть в плохом и сокращённом переводе, вышедшем у нас в 1926 году, в пору платоновского формирования как писателя. Слаб рассказ «Путешествие воробья», хотя и дорог мне, но по причинам не литературным. Невыразительно важное по замыслу «Возвращение». Платоновские романы, подобно «Мастеру и Маргарите» или «Доктору Живаго», от забвения спасла задержка в публикации или же просто запрет. «Чевенгур» и «Котлован» (как «Мы» или «Замок» и «Процесс») – мертвечина о мертвечине, нетворческая гомеопатия, попытка лечить подобное подобным, отражение состояния «современного духа» без объективного воссоздания. Не будь задержки с публикацией и запретов, все эти книги давно умерли бы собственной смертью.
Повесть «Впрок» добрые друзья писателя в хорошую минуту подсунули Сталину и, оправдывая их наилучшие ожидания, вождь на повесть обрушился, понятно, не по литературным причинам, но повесть в самом деле слабая. Камень с души моей упал, когда в телефонном разговоре с уже нынешним знатоком творчества Платонова я с того берега услышал: «Слабая повесть, что говорить». Взял бы вождь под защиту хорошую антиколхозную повесть, как защитил он замечательный антипролетарский мхатовский спектакль «Дни Турбиных» по роману Булгакова или нет – гадать не будем. Платоновский «Впрок» – пример сильного замысла и слабого исполнения. Повесть Платонова содержит образ-зерно, из которого могла бы вырасти глубочайшая вещь. «Он походил на хищного паука, из которого вырвали его нутро», – сказано о коллективизированном крестьянине. На фразу обратил моё внимание отец, он родился и вырос в деревне чеховских «Мужиков» и «В овраге», у него в коллективизацию сгинуло шесть дядьёв, потомков корреспондента Глеба Успенского, а я фразу пропустил, потому что повесть невыразительна.
Лучшие вещи Платонова, повести 20-х годов, читаются естественно и непроизвольно; сознание обалдевших от несусветной жизни простых людей (как любил он говорить) выражено в них настолько искренне и сильно, что забываешь о языке. А дальше? «По сравнению с 20-ми годами, – отмечает американский летописец нашей литературной жизни, – цензурное вмешательство в Советском Союзе усилилось и распространилось на области, прежде не затрагиваемые или затрагиваемые политическим контролем лишь в незначительной степени»[28 - Herman Ermolaev, Censorship in Soviet Literature, 1917–1991, Princeton: Rowman Publ. 1997, P. 51.]. С тех пор цензура «помогала» (по ленинскому выражению) мистифицировать творческие неудачи. Всякий писатель получил возможность сказать, что ему не позволяют написать, что он хотел и мог бы написать. А мог ли? Писательское поколение, заявившее о себе в 20-е годы, слишком принадлежало тому десятилетию. На Западе – послевоенному, после Первой Мировой войны, у нас – послереволюционному. Кто из них сумел творчески пережить своё время? Каждый талантливый создал книгу, со временем ставшую классикой, а всего прочего мог бы и не писать. «Мы пересказываем снова и снова одну и ту же историю», – говорил певец «шумных двадцатых» Скотт-Фитцджералд, создатель «Великого Гэтсби», а написанное им после шедевра могло бы не существовать. После сборника рассказов «В наше время» и романа «И восходит солнце» дальнейшая жизнь ещё одного американского современника Платонова, Хемингуэя, по мнению требовательных судий, не более чем затяжной кризис. А Платонов? Почему, как я думаю, не удались ему ни «Чевенгур», ни «Котлован»? По той же причине, что помешала Хемингуэю написать о войне так, как писал он о последствиях войны, взялся писать о том, чего не знал. «Если писатель пишет о том, что хорошо знает…» И Платонов взялся писать о том, чего не знал, как знал он свою Ямскую слободу, Растеряеву улицу революционных времен.
Многое у нас опубликовать было нельзя, и за счёт гнета создавалось впечатление сдерживаемой творческой энергии. Но сказал же Твардовский, когда миновало сталинское время: «Никто не достал из ящика письменного стола тайный шедевр». Не появилось шедевра и за границей, хотя эмигрантам не мешали писать и печатать о своей стране, что им было угодно, иногда ещё и поощряли. Неудача не индивидуальная, постигшая того или иного писателя. Идеи не было – в этом, я думаю, дело. Не было и нет. «Мы новый мир построим» – на развалинах мечты такого масштаба нужна мысль равновеликая, но дальше элегии или самооправдания послереволюционная мысль не шла, а сейчас – кривляние торжествующего люмпена. Кривляние не мое слово, я спросил москвича-сверстника, суждению которого доверяю: что происходит в российской литературе? Ответ: «Кривляются». Одно из тех приватных определений, которые на миру вызывают злобу.
«Скрытая правда».
Из рецензии Платонова на книгу Ирвинга.
Творческую исповедь Платонова я прочёл в его рецензии на книгу, которая была известна мне с детства, но чтобы книгу понять и платоновскую рецензию оценить, понадобилась целая жизнь. Книга, которую он взялся рецензировать, это американская классика – «Сказки и легенды» Вашингтона Ирвинга. Платонов рецензировал своих американских современников, Хемингуэя и Стейнбека, писал о таких произведениях, как «Прощай, оружие» и «Гроздья гнева», и сама Америка интересовала его, мастерового-механика. В каждой рецензии Платонов сказывался своими заботами, и в его суждениях о «Сказках и легендах» прорывается нечто личное. «Скрытая правда» – это платоновские слова из рецензии. В чём же правда?
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: