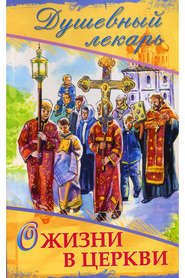По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Крест Христов
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Толпа народа, всегда буйная, читая надпись, кивала головой и кричала: «Уа, тридневный восстановитель храма! Уа, царь Израилев! Что же Ты медлишь спасти Себя? Вот какой Ты Сын Божий, что не можешь сойти с креста» (Мк. 15, 29)!
Первосвященники и старейшины не только не препятствовали черни издеваться над умирающим Господом, но и сами всячески ругали и злословили Его. Насмешки и поругания оставались единственным средством, которое они могли противопоставить хитрости Пилата, хотевшего осмеять их посредством надписи. Между тем, у первосвященников лежало на сердце еще нечто, гораздо важнее надписи, что побуждало их участвовать в самых низких насмешках. Теперь всем сделалось известно, что они – единственная причина столь ужасной казни для Иисуса и что Пилат долго не хотел осуждать Его. Необходимо было оправдать перед народом свое злодеяние и настроить общественное мнение так, чтобы чужеземные иудеи, собравшиеся со всех уголков на праздник, не разнесли по свету историю, как синедрион из низкого честолюбия предал позорной смерти праведника, едва ли даже не Мессию. Для такой цели поругания и насмешки казались самым лучшим средством: ибо опыт доказывает, что достойнейшие люди теряют авторитет, когда по какой-либо причине подвергаются осмеянию.
Лицемеры, по обыкновению, приняли вид усерднейших служителей Бога Израилева, строжайших ревнителей закона и, обращаясь к народу, говорили:
«Смотрите, других спасал, а Себя не может спасти! Напрасно ли мы уверяли вас, что от Этого Человека нельзя ожидать ничего доброго? Что друг мытарей и грешников рано или поздно займет место посреди злодеев? Что осквернение субботы не останется без небесного отмщения? Нам не верили, думали, что Он свят; вот теперь самое дело показало, мы ли говорили правду или Он! Кто не ожидает Мессии? Мы жизнь свою отдали бы за Его пришествие. Но ужели мы обязаны веровать в Мессию на кресте? И много ли нужно доказательств? Если Он действительно царь Израилев, пусть сойдет сейчас с креста, и мы тотчас же уверуем в Него» (Мк. 15, 32).
«В самом деле, – издевались прочие старейшины, – это совсем не царский престол. Теперь видно, каков Он Сын Божий и каковы Его чудеса. Оставил ли бы Отец собственного Сына в таком положении? Он уповал на Бога, пусть же теперь избавит Его Бог, если Он угоден Ему» (Мф. 27, 39–43; Мк. 15, 29–32; Лк. 23, 35). Последние насмешки суть те же самые, которые Давид в вышеприведенном псалме влагает в уста врагов праведника, им описываемого. Так верно исполнялись пророчества в действиях, даже несознательных, тех самых людей, которые исполняли их. При насмешках, бесстыдно повторяемых самыми властями иудейскими, не удивительно, что и грубые воины, стоявшие на страже, говорили Иисусу Христу: «Если Ты царь Иудейский, то зачем не спасешь Себя?» Такая насмешка в устах римских воинов могла быть плодом только самого слепого подражания. Когда иудей кричал таким образом, то выражение: царь Израилев, для чего не спасешь Себя – у него имели смысл и силу, ибо Мессия, по его мнению, должен быть чудотворец, следовательно иметь возможность помогать себе во всех случаях; язычник, напротив, под царем Иудейским подразумевал обыкновенного человека, из чего никак не следовало, чтобы он мог сойти сам с креста. Но грубые воины нимало не заботились о смысле слов своих, бездумно повторяя слышанное от других. Св. Лука упоминает еще (Лк. 23, 36), что воины подносили Иисусу Христу кислое питье, без сомнения, то самое, которым они имели обыкновение утолять свою жажду, находясь под открытым небом в жаркий полдень. Значит, между насмешками они не забывали и сострадательности к распятым, которые от мучений еще сильнее их должны были чувствовать жажду: обыкновенное сочетание в грубых людях доброго с худым, человечности со зверством.
Молчания, по крайней мере, можно было ожидать от тех несчастных, которые сами висели на крестах. Но и из них один, по свидетельству евангелистов, злословил Иисуса, требуя, чтобы Он как Мессия спас и Себя, и их. Хотел ли этот несчастный в помрачении рассудка, вызванном смирной, только развеселить себя, участвуя в общих насмешках? Или действительно, по неведению, почитал Иисуса Христа виновным и достойным казни? Или даже гордился тем, что участвовал в возмущении за свободу, и думал низко о Том, Кто, называя Себя Мессией, не произвел никакого переворота? Во всяком случае, видно развращенное сердце, виден грешник, который хочет перейти нераскаянным и в другой мир (Лк. 23, 39–43).
Тем более возвышенный образ мыслей обнаружился в другом распятом. Хула на Иисуса Христа была для него нестерпимее креста. «Ужели в тебе, – сказал он хулившему, – совершенно нет страха Божьего, что ты издеваешься над тем, что сам терпишь? И мы осуждены праведно, терпим по делам; а Он, Он не сделал никакого зла!»
Слова эти как бы дали ему смелость изъявить перед Самим Господом чувство веры и уважения, таившееся в его сердце. «помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»
«Истинно говорю тебе, – отвечал Господь, – ныне же будешь со Мною в раю»…
Торжество злоречия и клеветы не было продолжительно: вскоре после распятия Господа Промысл начал являть, что Он не даст святому Своему увидеть тления (Деян. 2, 27). Среди ясного полдня небо вдруг покрылось мраком (Мф. 27, 45; Мк. 15, 33; Лк. 23, 44), как бы во свидетельство, что великое дело тьмы приближалось уже к своей полуночи. Мрак этот походил на солнечное затмение; впрочем нисколько не был его следствием, потому что Пасха иудейская всегда совершалась во время полнолуния, когда луна не может находиться между землей и солнцем и вызвать солнечное затмение. По мнению Златоуста, Феофилакта и Евфимия, мрак во время распятия Иисуса Христа происходил от сгущения облаков между землей и солнцем, произведенного сверхъестественной силой.
Ев. Матфей говорит, что тьма наступила по всей земле. Хотя выражение это не должно понимать буквально, как справедливо замечено еще древними учителями Церкви, потому что земля у св. писателей часто означает одну какую-либо страну, особенно иудейскую, даже один город; впрочем, нет никакой причины ограничивать помрачения воздуха одной Палестиной. Оно, без сомнения, распространилось, в большей или меньшей степени, так же далеко, как и землетрясение, за ним последовавшее, которое, как видно из современных свидетельств, охватило большую часть Азии, Африки и Европы.
Замечательно, что древние иудейские писатели, которые в своих сочинениях обыкновенно или отвергают или извращают чудеса евангельские, не возражают против повествования о помрачении солнца во время страданий Христовых. Замечательно также, что языческий историк Флегонт, чьи слова приводятся Евсевием, Оригеном и Юлием Африканским, настолько согласен с евангелистами в описании одного необыкновенного помрачения солнца, случившегося в царствование Тиверия, что называет для него тот же самый час (шестой или, по нашему, 3-й пополудни). Вообще надо полагать, что событие это, как и прочие чудеса, за ним последовавшие, были тогда известны всем: иначе Тертуллиан, приводя их в доказательство божественности христианской религии, не ссылался бы перед лицом сената и народа римского на публичные архивы, где хранились описания подобных явлений.
Необыкновенное помрачение воздуха, последовавшее за распятием Господа, должно было закрыть хульные уста врагов Его и произвести на них впечатление самое мрачное. Если они не посчитали этого явления следствием бесчеловечности, проявленной по отношению к Праведнику, то, сообразно господствовавшим понятиям, не могли не видеть в нем предвестия общественных бедствий, тем более печального и ужасного, что оно случилось в день самого светлого праздника. В то время народы вообще верили, что необыкновенные воздушные явления, особенно помрачение солнца, предвещают худое, а иудеи тем более держались этого мнения, так как пророки, предсказывая народные бедствия, нередко соединяли с ними помрачение солнца. Особенно тьма могла просветить многих из иудеев, когда увидели, что, начавшись с распятием Иисуса Христа, она окончилась с Его жизнью; потому что обстоятельство это яснейшим образом показывало, что естественным, по-видимому, событием управляет сила сверхъестественная, Божья, и что свет мира материального померк, потому что на кресте угасал Свет мира духовного.
Для почитателей Иисуса Христа помрачение воздуха и сопровождавшая его тишина в природе были благоприятным случаем приблизиться ко кресту, где в это время сделалось покойнее. Таковы были, по свидетельству евангелистов, все знакомые Господу, в частности, многие жены галилейские, пришедшие на праздник, которые, по замечанию Марка, и когда Иисус был в Галилее, ходили за Ним (Мк. 15, 41) и помогали Ему от своего имущества (Мф. 27, 55): Саломия, жена Зеведея, мать Иакова и Иоанна (Мк. 15, 40; Мф. 27, 56); Мария Магдалина; Мария, сестра Богоматери, матерь Клеопы (Ин. 19, 25), Иакова и Иоссии; Иоанн, ученик и друг Иисусов; Матерь Господа.
Иосифа, обрученника Богоматери, не было, вероятно, не только на Голгофе, но и на земле. С того самого времени, как Иисус Христос, будучи 12 лет, приходил с родителями Своими в Иерусалим на праздник Пасхи (Лк. 2, 41–51), об Иосифе вовсе не упоминается в Евангелии, хотя при некоторых случаях весьма прилично было упомянуть о нем, если бы он был жив.
Учеников Иисусовых, кроме Иоанна, также не видно у креста: так, по крайней мере, заставляет думать молчание евангелистов. Отсутствие их тем извинительнее, что Сам Господь и Учитель запретил им подвергать себе опасности. У Петра был свой крест: он плакал в уединении…
С Матерью Господа неразлучнее всех был Иоанн: их соединяли и равная скорбь, и равная любовь к Распятому. Ученик по чувству сердца уже занимал место сына для безутешной Матери.
Прочие почитатели Господа все еще оставались в некотором отдалении от креста (Мк. 15, 40), может быть, на одной из возвышенностей, окружавших Голгофу. Но Богоматерь, св. Иоанн, Мария Клеопова и Мария Магдалина, презирая страх и опасность, подошли так близко, что Господь не только мог видеть их, но и говорить с ними (Ин. 19, 25). Ужасный вид для сердца матери, и – такой матери, какова была св. Мария! Оружие, предсказанное Симеоном в минуты Ее радости и величия (Лк. 2, 35), пронзило теперь всю душу Ее. Дружелюбное сердце Иоанново также терзалось печалью. Видя своего возлюбленного Учителя и Друга, висящего на кресте, посреди разбойников, – он невольно должен был вспомнить о своем безрассудном прошении. Теперь ясно было, что он совершенно не знал, чего просил у Иисуса, когда желал занять место по правую Его сторону, и как горька чаша, которую он обещался тогда испить с такой решительностью (Мф. 20, 22).
Впрочем, евангелисты не говорят, чтобы Матерь Господа и друзья Его рыдали, подобно женам иерусалимским. Их рыдания возмутили бы последние минуты лица, нежно любимого. Сама горесть их была выше слез: кто может плакать, тот еще не проникнут силой всей скорби, на какую способно сердце человеческое. И для Иисуса Христа взгляд на Матерь был новым мучением. Путешествуя постоянно из одной страны в другую для проповеди, Он не мог исполнять обычных обязанностей сына, но все же был надеждой и утешением Своей Матери, даже в земном отношении. Теперь Мария была Матерью уже не Иисуса, всеми любимого, уважаемого, Которого страшился сам синедрион, Который составлял предмет надежд для всего Израиля, а Иисуса, всеми оставленного, поруганного, окончившего жизнь на Голгофе, вместе со злодеями!.. Нужно было преподать какое-нибудь утешение, преподать однако же так, чтобы оно, служа отрадой на всю жизнь, не обрушило теперь на нее насмешек и преследований врагов, многие из которых находились еще у креста. Каких бы ни позволили они себе дерзостей, если бы узнали, что между ними находится Матерь Иисуса? Господь не назвал Ее Матерью.
«Жено, – сказал Он Матери, – се, сын Твой». Взгляд на Иоанна объяснил эти слова.
Потом, указывая взором на Матерь, сказал Иоанну: «Се, Матерь твоя» (Ин. 19, 26. 27).
Это значило, что последняя воля Божественного Страдальца состоит в том, чтобы Матерь и ученик не разлучались и после Его смерти, как соединились теперь у Его креста; чтобы Иоанн принял на себя обязанность сына, а св. Мария оказывала ему любовь матернюю. Ученик со всей точностью исполнил волю умирающего Учителя и Друга; и с того самого часа, как свидетельствует в своем Евангелии, принял Богоматерь в дом свой, заботился о Ней и до самой кончины Ее, как говорит предание, был Ее любящим сыном. Для св. Иоанна тем удобнее было принять в свою семью Богоматерь, что дом его был богат и благоустроен. Между тем, ученики Иисусовы, оставив все стяжания, чтобы последовать за Ним, не теряли через это прав собственности и, когда можно было, возвращались в свои дома и занимались хозяйством. И для Саломии, матери Иоанновой, усыновление сына ее Матерью Иисусовой было очень приятно. Ибо хотя она имела предрассудки в рассуждении земного царства Мессии (кто не имел их?) и получила от Иисуса Христа, как мы видели, отказ и упрек за прошение о невозможном (Мф. 20, 20–22), она нисколько не изменила свое отношение к Нему и теперь, забыв об опасности, стояла на Голгофе, чтобы быть свидетельницей последних минут Его.
Усыновление св. Иоанна служит новым доказательством, что св. Иосифа не было уже в живых и что братья Иисусовы, о которых упоминается в Евангелии (Ин. 7, 5), не были Его родными братьями, как думали некоторые еретики.
При снятии со креста и погребении Иисуса о Богоматери евангелисты уже не упоминают, хотя снова говорят о прочих женах. Отсюда заключают, что Богоматерь удалилась с Голгофы еще до смерти Господа, вскоре после того, как последовало усыновление Иоанна. Может быть, Сам Господь дал знак ученику увести Матерь. При всей крепости духа и преданности Ее в волю Промысла, которые достаточно засвидетельствованы присутствием Ее на Голгофе и приближением ко кресту, материнское сердце могло не перенести последней борьбы жизни со смертью, которая предстояла Богочеловеку. С Богоматерью должен был удалиться и Иоанн, присутствие которого для Нее было так нужно. Впрочем, он опять явится на Голгофе и, кажется, перед самой смертью своего Божественного Друга; ибо, описывая в своем Евангелии последние минуты Его, как очевидец, и дополняя в этом отношении прочих евангелистов, он за усыновлением непосредственно повествует о жажде Господа.
Преподавая утешение другим, Господь Сам имел величайшую нужду в утешении. Со времени распятия протекло около трех часов (Мф. 27,46); боль от ран, тяжесть в голове, томление в сердце, пламень во всех внутренностях усилились до крайней степени. Никогда пророчества не исполнялись с такой силой, как теперь исполнялись на Нем слова св. Давида о Мессии: «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище» (Пс. 21, 15–18).
Божественный Страдалец, вероятно, Сам остановился мыслью на этом пророчестве… Сила уходила вместе с жизнью… Угасающий взор все еще стремился к небу, но оно было мрачно – ни одного луча света, ни одного утешения… Правосудный Отец как будто оставил Сына, страждущего за грехи людей… Мысль эта довершила меру страданий, и без того ужасных: человеческая природа изнемогла…
«Или, Или! – воскликнул Божественный Страдалец, – лама савахфани?» (Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?)
Ответа не было… Он заключался в наших грехах: Господь, по замечанию св. Киприана, для того вопросил Отца, чтобы мы вопросили самих себя и познали свои грехи. «Ибо, – продолжает священномученик, – для чего оставлен Господь? Дабы нам не быть оставленными Богом; оставлен для искупления нас от грехов и вечной смерти; оставлен для показания величайшей любви к роду человеческому; оставлен для доказательства правосудия и милосердия Божьего, для привлечения нашего сердца к Нему, для примера всем страдальцам».
Это единственное толкование жалобной молитвы Иисуса, которое надо знать и всегда помнить Его последователям. Полный смысл этой молитвы есть и должен быть для нас тайной… Впрочем, в ней не видно никакого сомнения или огорчения. Уже повторение слов: Боже Мой, Боже Мой, – показывает противное. Видна только жалоба на тяжесть мучений – и внешних, и внутренних, а особенно на видимое как бы затмение Божественного единства Его со Отцом, которое заменяло доселе все утешения, и теперь, нарушившись, составило последний предел внутренних страданий и верх креста; то есть видно такое чувство, которое столь же свойственно человечеству, сколько Божеству прилично бесстрастие.
Молитвенное восклицание Господа для врагов Его послужило новым поводом к насмешкам. Изверги притворились, что не поняли Его слов, и, основываясь на некотором сходстве звучания Или с именем Илии, придали им смысл обращения к этому пророку: «Смотрите, – кричали один другому, – Он зовет Илию на помощь», то есть смотрите, как Он, и умирая, продолжает представляться Мессией: ибо все верили, что Илия вместе с другими пророками должен явиться перед появлением Мессии и быть Его предтечей и слугой; верили также, что этот пророк является иногда, чтобы помочь тем, которые его призывают.
К прочим мучениям Господа присоединялись теперь еще смертельная жажда, следствие большой потери крови, – предвестница в распятых близкой смерти. Изнемогая от этого нового мучения, Божественный Страдалец воскликнул: «жажду!»
Жалобный вопль этот, провиденный и предсказанный также пророком (Пс. 69, 22), тронул одного из воинов. Он тотчас окунул в уксус губку, надел ее на иссоповую трость и приложил к устам Иисуса… Сотник не препятствовал человеколюбию подчиненного, будучи готов позволить и более, потому что распятый Праведник час от часу более привлекал его внимание и уважение.
Но враги Иисуса и здесь проявили бесчеловечность. «Оставь Его, – кричали с досадой воину, – Он надеется на Илию; так посмотрим, придет ли Илия снять Его со креста». Даже сам воин, напоивший Иисуса Христа, как бы опасаясь показаться слишком отзывчивым, говорил: «Что за нужда; может быть, Илия замедлит придти».
Вкусив немного прохладительного пития, Господь далее воскликнул громко: «Совершилось!» Это был последний предел и судеб Божьих, которые исполнялись теперь над Ходатаем Бога и человеков, и самых страданий Его; ибо пречистое тело Его, для которого страдания, по самому совершенству его, были невероятно мучительны, уже готово было разлучиться с душой. Возведя взор к небу, Иисус сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой!..» При этих божественных словах глава Его преклонилась (как обыкновенно бывает с умирающими), и Он предал дух (Ин. 19, 30; Лк. 23, 46)…
Так окончилась жизнь, равной которой не было и не будет на земле!
Все, сказанное Господом перед Своей смертью показывает, что мысль Его в эти решительные минуты была заключена в слове Божьем. При первой борьбе, которую Он, как второй Адам, должен был выдержать в пустыне в начале служения Своего, слово Божье было для Него единственным щитом против разжженных стрел сатаны (Мф. 4, 1—10). И теперь, в последней борьбе с немощами природы человеческой, с болезнями тела и духа, Господь обращается за утешением к тому же слову Божьему. В нем, как на чертеже Своей жизни и служения, видит настоящее, прошедшее и будущее: видит, что оставалось еще претерпеть для блага человечества, видит, наконец, исполнение всех великих судеб Божьих и как победитель, который истоптал уже точило ярости Божьей (Ис. 63, 2), восклицает: «Совершилось!» Нужно ли напоминать о том, как многозначительно это восклицание! Целая история рода человеческого должна служить его изъяснением; но одна только вечность раскроет вполне то, что совершилось теперь на малом холме Голгофском. Ап. Павел говорит, что на кресте расторгнуто рукописание грехов человеческих (Кол. 2, 13. 14): оно расторгнуто в ту самую минуту, когда Господь изрек: «Совершилось!»
При всей лютости страданий, при всем уничижении, Сын Человеческий до самой последней минуты является с полным сознанием Своего Божественного достоинства и великого предназначения. Последний взор Его устремлен к небу, последний глас Его обращен к Отцу! Мы видим всемогущего Посланника Божьего, у Которого, как Он Сам сказал, никто не может взять жизни против Его воли (Ин. 10, 18). Поэтому если Он предает ее теперь, то предает Сам, добровольно и только исполнив Свое великое дело, – предает не ангелу смерти, а Отцу, Который дал Ему иметь жизнь в Самом Себе (Ин. 5, 26)…
Впрочем, мнение, что смерть Богочеловека на кресте ускорена сверхъестественным действием Божественным, чтобы тело Его, которое должно воскреснуть, не подверглось сокрушению голеней, не может быть принято, хотя оно высказано еще древними учителями Церкви и подтверждается, по-видимому, некоторыми обстоятельствами самой истории евангельской (непродолжительным пребыванием Господа на кресте, удивлением Пилата, что Он уже умер, и сотника, что смерть Его наступила вдруг за громкими восклицаниями и проч.). Достойно ли это мнение Божественного Страдальца? Мы видели, как Он решительно отказался от всех сверхъестественных средств для Своей защиты; можно ли после этого думать, что Он воспользовался чем-то сверхъестественным для сокращения Своих страданий? Чтобы внутренний крест Его остался, так сказать, недоконченным? Нет! Кто учил других, что претерпевший до конца спасется, Тот Сам, без сомнения, терпел до конца: подвигоположник не может быть ниже подвижников. Вождь спасения нашего явился совершенным через страдания (Евр. 2, 10), поэтому, сокращая страдания, мы как бы сократим Его совершенства.
И не довольно ли естественных причин, которые могли ускорить на кресте смерть Богочеловека? Бичевание одно, как мы заметили, нередко оканчивалось смертью бичуемого. Удивительно ли, что прервалась жизнь Того, Кто, кроме бичевания, претерпел множество других мучений, Кто еще в саду Гефсиманском был изнурен кровавым потом до того, что имел нужду в ангеле укрепляющем, а на пути к Голгофе, под тяжестью креста ослабел настолько, что даже бесчеловечные враги заметили, что жизнь Его в опасности? Если крест иногда не скоро умерщвлял, то надо помнить, кого он не скоро умерщвлял и кто были люди, которых распинали на крестах. Громкие восклицания распятых не только не показывают избытка жизненных сил, но, по замечанию опытных физиологов, являются несомненным признаком наступающей смерти. Распятые вместе с Господом должны были остаться в живых дольше уже потому, что не были подвергнуты бичеванию, да и по некоторым другим причинам.
Митрополит Сурожский Антоний
Крестный путь Христов
Когда мы говорим о крестном пути, мы, большей частью, думаем о том периоде жизни Спасителя, который начинается с Его выходом на проповедь, или чаще – о том периоде, который мы называем Страстной седмицей. Но мне кажется, что надо рассматривать, видеть этот крестный путь Господень гораздо шире. Апостол Петр говорит, что Христос – Агнец, закланный прежде создания мира… Еще до того, как Господь державным Своим словом создал мир, Он в Своей премудрости, в Своем извечном знании судеб знал, чтo случится с этим миром. Он знал, что мир, который Он создает для вечной славы, трагически потеряет свой путь, отпадет от Него и что спасение этого мира будет обусловлено, осуществлено приходом на землю, воплощением Сына Божия, Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому тайна Креста как бы вписана в самую тайну Святой Троицы. Когда священник начинает всенощную, он, держа кадило в руке, начертывает им крест и произносит слова: Слава Святей, Единосущней и Животворящей и Нераздельней Троице; и эти слова, и это движение его руки вписывают крест в самую тайну Святой Троицы. Святая Троица – это тайна Божественной любви; и эта Божественная любовь является одновременно и торжеством, и ликованием, и крестным состраданием со всей тварью. Центр этой тайны Святой Троицы по отношению к нам – распятая любовь.
Протопоп Аввакум в начале своего «Жития», размышляя над сотворением мира, представляет себе, как это совершилось, и говорит о том, как Предвечный Совет происходил. Отец сказал Сыну: «Создадим мир!» и Сын ответил: «Да, Отче!». «Но этот мир, – говорит Отец, – отпадет от своего пути, и для того, чтобы его спасти, Тебе придется стать человеком и умереть». «Да будет так!»– говорит Сын. И Господь создал мир.
Это, конечно, образные слова, но они выражают ту тайну любви Божией, которая не только ликует о создании, не только радуется о красоте, которую Он вписал в Свою тварь, не только дает нам свободу и жизнь и призывает нас быть детьми света и Своего Царства; эти слова открывают нам Бога, Который идет любовью до самого предела, то есть до смерти, и за предел смерти.
Вот где начинается наше созерцание, наше изумление и, может быть, наш ужас перед нашим же существованием и перед тайной нашего сотворения: Бог, который все знал наперед, нас создал, зная, что мы будем искуплены только крестом и смертью Единородного Его Сына. И в ответ на это мы можем отозваться только благоговением, благодарностью, любовью и готовностью все силы – пусть они будут малые, но все без остатка – приложить к тому, чтобы Божия крестная любовь не осталась без ответа, чтобы крестная смерть Спасителя Христа не была нами как бы забыта или отвергнута. Вся жизнь наша, перед лицом этой тайны Агнца Божия, распятого за спасение мира, должна стать и быть одной сплошной благодарностью. А благодарность Богу можно выразить, только следуя тем путем, который ведет нас ко спасению, тем путем, который жизнью и смертью Своей проложил Господь Иисус Христос.
Это первый образ: Агнец Божий, закланный до создания мира. Этот образ Агнца, ягненка, проходит красной нитью через весь Ветхий Завет; на протяжении всего Ветхого Завета Бог ставит нас перед лицом того, что невиновный страдает и погибает, потому что есть виновные, чистый погибает, потому что есть нечистота, праведник гибнет, потому что есть неправедность, и Всесвятой Бог должен умереть в плоти человека, потому что есть грех на земле. Это – закон жизни, который определяется, с одной стороны, неисчерпаемой любовью Божией, и с другой стороны – нашей греховностью. С одной стороны, Бог отдает все, с другой стороны, мы, большей частью, все отвергаем или забываем.
И вот распятие Христово, эта смерть Невинного должна нам напомнить о том, что этот страшный закон зависит от нас, и не только по отношению ко Христу, но по отношению друг к другу. По отношению к каждому человеку, к судьбе всей земли человеческий грех, человеческая злоба, неправда, жестокость всегда врезаются в плоть и в душу невинного. Вот первое, о чем нам говорит образ Агнца Божия, закланного до создания мира.
Второе – это само Воплощение. Сын Божий, Которым создан мир, есть творческое Слово и, одновременно, Тот, Кто должен Своей жизнью и смертью искупить этот мир. Он его создал, зная, что будет, и Он вступает в этот мир на смерть. Каждый из нас призывается Богом из небытия во временную, преходящую жизнь, чтобы через нее вырасти в жизнь вечную. Сын Божий из вечности, из области, где нет смерти, нет ограничений, нет страдания, нет греха, нет неправды, вступает доброй Своей волей в мир греха, неправды, ограниченности и смерти для нашего спасения. Мы через временную жизнь врастаем в вечную. Он из вечности как бы вступает во время и в земные условия, чтобы умереть.
И когда мы вглядываемся в тайну рождественской ночи, мы видим образ того, что есть любовь; видим ее образно, картинно, видим ее в Младенце, лежащем в яслях, Которого Бог и Отец нам отдал, чтобы мы, люди, поступили с Ним, как захотим… Любовь беззащитна, любовь отдает себя до конца, любовь до конца уязвима; и в лице Спасителя, родившегося в Вифлееме, мы видим, что представляет собой и Божественная любовь, и всякая любовь: отдача себя без защиты, готовность на все без сопротивления.
И этому можно научиться, потому что здесь уже область наша, земная. Какова наша любовь? Можем ли мы говорить о любви к самым близким, или к более дальним, или к Богу в таких категориях? Разве мы отдаем себя своему ближнему, даже и самому дорогому, без всякой мысли о том, чтобы сохранить свою «цельность», защитить себя от ран, от боли, от унижения, от разочарования, от измены, от обмана, от всего, что может нас ранить? Неужели наша любовь такая открытая, такая отданная, такая беззащитная, что готова на все, только бы не перестать, не измениться, не поколебаться? Вот о чем нам говорит Воплощение: о любви и о том, какова она. И если такова Божия любовь к нам и если Христос говорит нам: «Я вам дал пример, последуйте ему», – то этот образ мы должны воспринять ответственно.