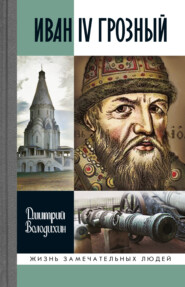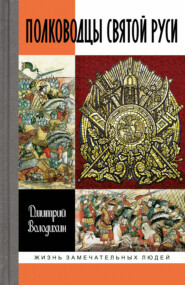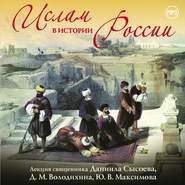По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смертная чаша
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Женщина не обернулась кошкой, однако ум его, напрасно распалившийся, успокоился.
– Ступай, Федора Никитича позови…
Откуда-то сбоку долетело:
– Я здесь, зятюшка.
А… вон он, у окна сидит, подбородок ладонью грустно подпер, взор унылости полон, яко у пса остарелого.
– Воды бы мне…
Женщина поднесла ему чарочку. Напившись, Хворостинин спросил:
– Кудеяр?
– Ускакал. На опричных не нападал, отца саблею вызволить не пытался. Вот и всё, что я знаю.
– Бешена головушка… Щербина?
– Нет вестей… – До князя донесся долгий вздох.
– Сколько… я?..
– Со вчерашнего дня. Я тебя, Дмитрий Иванович, сам сюда отволок, раздел, обмыл да перевязал. Но, зрю, науки моей не хватает. Нет, не хватает. Позвал… мою… – Он запнулся.
«Вот дела-то!» – подивился Хворостинин сей запинке. А Федор все-таки сообразил, как ему назвать ангелоподобную женщину:
– Знахарку свою… позвал… Она тебя лечила. Не опасайся: без волшбы, загово?ров и наговоров, одними токмо травами, да еще…
– А где жена моя? – перебил его князь.
И услышал новый вздох.
– Не хотел ее звать, покуда не очнешься. Отправил дворового, мол, загулял с нами супруг твой.
– Теперь зови! Нет… Пусть меня домой сволокут. Или я сам дойти могу?
– Ой! Нелзе… – воскликнула зырянка, обеими руками прижимая плечи Хворостинина к ложу, не давая встать.
Женщина объяснила, странно выговаривая слова, – так, словно часть их не она произносила, а выводила невидимая птичка у нее на плече, – рана-де неглубока, но длинна. Едва успокаиваться начала, застывает. А прежде мно-ого крови вылилось, ой! Плохая рана. Надо лежать. День лежать, может, два лежать. Потом – вставать, иттить. Тихо-онечко иттить. Долго срасти… Долго срастеется.
– Зови жену… – сделал вывод Хворостинин. – Что поделать, раз такие пряники на прилавок вылегли? Ин ладно. Жена женой. А служба-то моя, видишь ли, пропала… Какое мое ныне путное шествие, когда я – раздавленный червяк? В Разрядный приказ доложить бы надо: авось еще кого-то взамен послать успеют… Ну?
Молчит Федор. Туго ему. Всё же дело вскроется.
И Хворостинин ответил на невысказанные его мысли:
– А как еще? Пиши письмо в доклад. Покуда я тут лежмя лежал, уже следовало написать… Шила-то в мешке не утаишь. Жаль Кудеярку, жаль дурака, но дела нашего скрыть никак невозможно.
Молчит.
– Напишешь ле?
– Да… – нехотя ответил Федор. – Чуть погодя.
– Скорее же.
И Хворостинин повернулся к женщине.
– Как тебя зовут, волшебная кошка?
Зырянка поклонилась ему в пояс и ответила:
– Я не волшебен… не волшебная… У меня много имен. Какое тебе нужно?
– Такое, каким мне тебя звать.
– Отклину… откли… откликнусь на любое имя, какое услышу от тебя. Наш господин… Фи-о-дор велел почитать тебя. Я не пирен… я не перетчу ему… я чту… Имя первое дали мне отец и мать: Ройда. Смысе… смысел его ныне ничего не стоит, он не нужен. Имя второе дал мне поп: Ан-фу-са. Хорошее имя, мне нравит. Грец… гречин… Ой.
Федор с важностью поправил ее:
– Эллинское.
– Да… эл-лин-ское. Она значит: баба цветёт.
– Цветущая, – добавил с улыбкой Федор. – Радостная.
– Да… радостана… Хорошее имя. Пока была де-ва-чка и де-ви-ца, мать называла Пим, это молоко по-вашему, по-русску. Люди говорили, что пахну молоком. Потом стали звать Йома. Но это полохое имя, злое имя, не надо его.
Хворостинин изумился:
– Откуда у тебя злое имя? Ты же тиха!
Зырянка спрятала взгляд.
– Была не тиха. Была свар-ли-ви-ца. Ведала то, что ведать не надо.
– Что?
Она тотчас же замолчала. Смотрит в пол, очи полуприкрыты.
– Дмитрий Иванович, не томи ее. Ведала то, чего доброй христьянке не надобно. Бесовское это. Было и сплыло, нынче нету. Вот и весь сказ.
Хворостинин кивнул. Вот еще, была охота – чужую темень разведывать!
Зырянка тем временем продолжала:
– Ныне следует звать меня по мужу. Такой у нас закон. Ныне я Кась-ян-готыр.
– Ступай, Федора Никитича позови…
Откуда-то сбоку долетело:
– Я здесь, зятюшка.
А… вон он, у окна сидит, подбородок ладонью грустно подпер, взор унылости полон, яко у пса остарелого.
– Воды бы мне…
Женщина поднесла ему чарочку. Напившись, Хворостинин спросил:
– Кудеяр?
– Ускакал. На опричных не нападал, отца саблею вызволить не пытался. Вот и всё, что я знаю.
– Бешена головушка… Щербина?
– Нет вестей… – До князя донесся долгий вздох.
– Сколько… я?..
– Со вчерашнего дня. Я тебя, Дмитрий Иванович, сам сюда отволок, раздел, обмыл да перевязал. Но, зрю, науки моей не хватает. Нет, не хватает. Позвал… мою… – Он запнулся.
«Вот дела-то!» – подивился Хворостинин сей запинке. А Федор все-таки сообразил, как ему назвать ангелоподобную женщину:
– Знахарку свою… позвал… Она тебя лечила. Не опасайся: без волшбы, загово?ров и наговоров, одними токмо травами, да еще…
– А где жена моя? – перебил его князь.
И услышал новый вздох.
– Не хотел ее звать, покуда не очнешься. Отправил дворового, мол, загулял с нами супруг твой.
– Теперь зови! Нет… Пусть меня домой сволокут. Или я сам дойти могу?
– Ой! Нелзе… – воскликнула зырянка, обеими руками прижимая плечи Хворостинина к ложу, не давая встать.
Женщина объяснила, странно выговаривая слова, – так, словно часть их не она произносила, а выводила невидимая птичка у нее на плече, – рана-де неглубока, но длинна. Едва успокаиваться начала, застывает. А прежде мно-ого крови вылилось, ой! Плохая рана. Надо лежать. День лежать, может, два лежать. Потом – вставать, иттить. Тихо-онечко иттить. Долго срасти… Долго срастеется.
– Зови жену… – сделал вывод Хворостинин. – Что поделать, раз такие пряники на прилавок вылегли? Ин ладно. Жена женой. А служба-то моя, видишь ли, пропала… Какое мое ныне путное шествие, когда я – раздавленный червяк? В Разрядный приказ доложить бы надо: авось еще кого-то взамен послать успеют… Ну?
Молчит Федор. Туго ему. Всё же дело вскроется.
И Хворостинин ответил на невысказанные его мысли:
– А как еще? Пиши письмо в доклад. Покуда я тут лежмя лежал, уже следовало написать… Шила-то в мешке не утаишь. Жаль Кудеярку, жаль дурака, но дела нашего скрыть никак невозможно.
Молчит.
– Напишешь ле?
– Да… – нехотя ответил Федор. – Чуть погодя.
– Скорее же.
И Хворостинин повернулся к женщине.
– Как тебя зовут, волшебная кошка?
Зырянка поклонилась ему в пояс и ответила:
– Я не волшебен… не волшебная… У меня много имен. Какое тебе нужно?
– Такое, каким мне тебя звать.
– Отклину… откли… откликнусь на любое имя, какое услышу от тебя. Наш господин… Фи-о-дор велел почитать тебя. Я не пирен… я не перетчу ему… я чту… Имя первое дали мне отец и мать: Ройда. Смысе… смысел его ныне ничего не стоит, он не нужен. Имя второе дал мне поп: Ан-фу-са. Хорошее имя, мне нравит. Грец… гречин… Ой.
Федор с важностью поправил ее:
– Эллинское.
– Да… эл-лин-ское. Она значит: баба цветёт.
– Цветущая, – добавил с улыбкой Федор. – Радостная.
– Да… радостана… Хорошее имя. Пока была де-ва-чка и де-ви-ца, мать называла Пим, это молоко по-вашему, по-русску. Люди говорили, что пахну молоком. Потом стали звать Йома. Но это полохое имя, злое имя, не надо его.
Хворостинин изумился:
– Откуда у тебя злое имя? Ты же тиха!
Зырянка спрятала взгляд.
– Была не тиха. Была свар-ли-ви-ца. Ведала то, что ведать не надо.
– Что?
Она тотчас же замолчала. Смотрит в пол, очи полуприкрыты.
– Дмитрий Иванович, не томи ее. Ведала то, чего доброй христьянке не надобно. Бесовское это. Было и сплыло, нынче нету. Вот и весь сказ.
Хворостинин кивнул. Вот еще, была охота – чужую темень разведывать!
Зырянка тем временем продолжала:
– Ныне следует звать меня по мужу. Такой у нас закон. Ныне я Кась-ян-готыр.