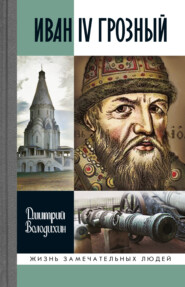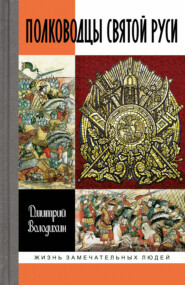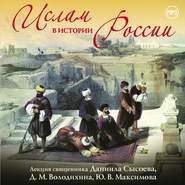По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смертная чаша
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Жена Касьяна, холопа моего, – перевел Федор.
– Инакое же про-зви-ще – Касьиха Вань.
– Супруга Касьяна Ивановича, – пояснил Федор.
Хворостинин хмыкнул: еще простолюдину с отчеством ходить! Не по рылу ему отчество… Ин ладно, холоп чужой, тут уж воля хозяйская.
Между тем зырянка еще не закончила:
– Я больше не Йома. Я исправильнась. Хочешь, зови меня Йома, но лучше не зови, это плохо.
Пока женщина говорила, она ни разу не поглядела на Хворостинина. Ни в лицо, ни даже в его сторону. Князь был ей за то благодарен: ныне он женат, баловаться ему не след. Но в зырянке жило нечто… зовущее. И один Бог ведает, как откликаться на сей зов. Краса ее и впрямь сродни кошачьей: кошка зовёт твою руку погладить ее, и зырянка вроде бы… звала огладить, коснуться, приблизить. Мягка, податлива, скромна и… будто не матерью рождена, а писана на стене храма. Тако и с Дунюшкой: мало не с иконы сошла. Но Дунюшка жена, с нею всё можно. А с этой ничего нельзя. Хворостинин чувствовал, что в зырянке заключено вместе с красою лихо: тот, кто притронется к ней беззаконно, вдоволь напьется потом страдания. За лихом же скрывалась некая добрая истина, но какая… Дмитрий Иванович понять не мог.
– Ступай! – велел ей Тишенков-младший. – Будешь ходить за гостем моим, пока он не оздравеет вполне. А сейчас иди.
Зырянка еще раз поклонилась и вышла из покоя.
Федор смотрел ей вослед, яко смотрит инок-молчальник, постник и отшельник на ангела, явившегося ему после того, как он двадцать лет просил Бога о некоем знаке в ответ на его моления.
Аж светился.
И, заметив пытливый взгляд Хворостинина, нимало не смутился. Вот тебе и Касьиха Вань!
– Как она говорила, ты слышал, Дмитрий Иванович? – И, не дожидаясь ответа Хворостинина, даже не глядя на него, а все еще любуясь дверью, чрез которую вышла зырянка, сам себе ответил: – Не говорила даже… нет… слова подобрать не могу…
– Глаголала?
Федор помотал головой:
– Нет, нет, и не глаголала. Глаголет кто? Истину некий древний святитель изглаголал… Вельможа государю правду глаголит. А государь, его много слушав, указ проглаголит… Всё не то! Она… она… журчит. Будто бы ручеёк по камушкам… Она как кошка обласканная урчит… так шр-р-р… шр-р-р… Нет. Она… слово выговаривает, словно роняет лист по осенней поре, и тот лист преждепавших своих товарищей касается с шуршанием… Нет! Нет! Другое. Вот, ближе всего: тихая река меж лесов течет со медленностью и покоем… волн совсем не бывает на ней, но воды ее, смиренные, небурливые, негромкий плеск издают на перекатах. Она – плещет водами слов… Не говорит, не глаголит, но именно плещет… Ежели был бы звук, с коим деревья растут из земли да травы о весне поднимаются, то тако и звучал бы ее голос.
Федор замолчал, и Хворостинин не смел прерывать его дум. Чужую тайну принял он без осуждения, ибо сам был грешен и не дерзал наставлять иных людей во христьянском долге.
Тишенков-младший ходил по палате с волнением. Столь долго отмеривал он шаги, что хватило бы три раза не торопясь прочитать «Верую» от начала и до конца.
Остановился. Вновь заговорил:
– Сказано: женщина в цветении красы своей плывет яко корабль, изготовившийся к бою. Уже щиты подняты, сабли из ножен извлечены, и стрелы наложены рукой умелой на луки… Но краса красе рознь. Та, первая, боевая, побеждается любовью и законом. Коснись ее рукой законного супруга, и уж нет в ней ничего грозного и прельстительного, а есть любовь, лад. А эту ничем победить невозможно. Дмитрий Иванович, не подумай худого, не о блудном грехе рассуждаю, я не блудник, я плотским помыслам своим хозяин. О другом речь. Жила моя Пим в лесах, в веси какой-нибудь малой, вдали от города, от суеты и мелких грешков, кои творим бесчисленно… мы ведь грешим неослабно, как дышим, да еще друг друга на новые грехи толкаем, мол, ничего, потом как-нито отмолится! А она… она без этого всего росла, без нашего дурного кипения. Вот и выросла в чистоте. Не изгрязнилась, не изгрешилась, не скверна ничем страшным и тяжелым. И сама… будто лес, а в нем всякая зверь лесная, и река с рыбою, и езера со цветами езерными, и ветр со облаками на плечах, и дорога, глухую дебрь пронизывающая, и…
Тут Хворостинину явилось правильное имя того, о чем долго со сладостию говорил ему Федор:
– …и всё на свете, яко создал его когда-то Господь Бог, яко было у самых начал, в раю, до того, как бесы и люди поперепортили тут и там. Зырянка твоя… она вроде воспоминанья о Творении… Оттого красу ее не победишь, оттого и касаться ее не следует ни скверной рукой, ни скверной мыслью. Верно ле?
Федор кивнул.
– Хорошо как молвил, Дмитрий Иванович! Лепо! Люблю я книжное слово, ибо оно виноград смысленный и тем слаще медов. Мне бы тако сказать, как ты. А я рассеян сделался, никоторого ума не осталось…
– Еще б! Где отец твой, где брат твой! Как не растеряться?
Федор покачал головой со отрицанием.
– Не от того ум мой смешался. От нее… От моей Пим, от речной жемчужины моей…
Хворостинин вздрогнул от такового совпадения.
– Ты, брат…
– Всё знаю! Взять в жены не могу, оттого что она замужем, да и звания не моего… Правда, вон святой Петр, князь Муромский, бортникову дочь из деревни за себя взял, простую девицу…
– То святой, а то ты! Нет тебе такого пути, род уронишь.
Федор ему отвечать не стал, он толковал про свое, не очень-то и слушая Хворостинина.
– Взять ее спроста – тоже не могу! Душа блуда не приемлет. А и отказаться сил нет. Хочу, чтобы она рядом со мной была, не могу отпустить! Скажешь мне: от мысленного волка звероуловлен, – яко святым Иоанном Златоустом писано?
Хворостинин ничего Федору не ответил. Какие еще есть словеса у Иоанна Златоуста, Бог его знает! То всё для книжников.
– Может, и так. Но я до скверны опуститься себе не позволяю… Как быть? Может, во иноки постричься? Вот благое средство-то для исцеления! Но сказано в Писании: «Крепка, как смерть, любовь; она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее…» Сил нет у меня – пойти в обитель! Или все же пойти?..
Говорил бы Тишенков-младший о душевной своей язве, и говорил бы, и еще бы говорил без унятья, но Хворостинин дал ему угомон – схватил за руку. Тот замолк разом и будто бы ото сна очнулся.
Тогда князь сказал ему:
– А теперь… не при бабе: живот разболелся. Доведи меня до дырки, шурин мой многоценный! Без баб, без дворни, без сраму для меня. Сам. Поможешь ли? Христом Богом…
Тишенков-младший в ответ горестно покачал головой.
– Помочь-то помогу, отчего ж, мы ведь в свойстве с тобой ныне, мало не в родстве. Токмо иначе… Не будет тебе никакой дырки, Дмитрий Иванович. Еще день не будет, а то и два. Прости… на судно пока пойдешь.
Хворостинин аж зубами скрипнул от злости. Больше всего в жизни сей боялся он слабости и беспомощности. Смерть – она что? Она от Бога. Просто твой черед пришел перед Судией отчет держать. Дряхлость, увечье, расслабление – вот горе истинное! Всем в обузу, всем в помеху…
С этой мыслью князь заснул, так и не успев взгромоздиться на судно.
Ослаб!
– Почему эта при моем муже сидит, руками его трогает и под исподней его рубахой пальцами копошится?
Хворостинин проснулся рывком, но объяснить толком ничего не успел:
– Дуняшенька…
А Дуняшенька наяривала не хуже косца ранним утром. Таково отмахивала, что едва только гром с молоньей под крышею не гремел.
– Ну не стыд ли? Федор! Зачем разврат ты тут устроил?! Митенька мой спит, едва живой, а ты к нему какую-то гулящую жонку допустил?!
– Знахарка моя… То для лечбы… рубаху приподнять да под нею повязку бы поправить… – смущенно держал ответ Тишенков-младший.
– Повязку? Поправить? Своему мужу я сама что хочешь поправлю! Никакая знахарка так ему не поправит, как я поправлю! Всё ему поправлю, что надо ему поправить! А больше никому соваться не надо и ничего поправлять ему не надо! Ишь ты, знахарка! В знахарках старухи скрюченные ходют, замшелые да скособоченные, а тут какова пава под бок ему села!
– Инакое же про-зви-ще – Касьиха Вань.
– Супруга Касьяна Ивановича, – пояснил Федор.
Хворостинин хмыкнул: еще простолюдину с отчеством ходить! Не по рылу ему отчество… Ин ладно, холоп чужой, тут уж воля хозяйская.
Между тем зырянка еще не закончила:
– Я больше не Йома. Я исправильнась. Хочешь, зови меня Йома, но лучше не зови, это плохо.
Пока женщина говорила, она ни разу не поглядела на Хворостинина. Ни в лицо, ни даже в его сторону. Князь был ей за то благодарен: ныне он женат, баловаться ему не след. Но в зырянке жило нечто… зовущее. И один Бог ведает, как откликаться на сей зов. Краса ее и впрямь сродни кошачьей: кошка зовёт твою руку погладить ее, и зырянка вроде бы… звала огладить, коснуться, приблизить. Мягка, податлива, скромна и… будто не матерью рождена, а писана на стене храма. Тако и с Дунюшкой: мало не с иконы сошла. Но Дунюшка жена, с нею всё можно. А с этой ничего нельзя. Хворостинин чувствовал, что в зырянке заключено вместе с красою лихо: тот, кто притронется к ней беззаконно, вдоволь напьется потом страдания. За лихом же скрывалась некая добрая истина, но какая… Дмитрий Иванович понять не мог.
– Ступай! – велел ей Тишенков-младший. – Будешь ходить за гостем моим, пока он не оздравеет вполне. А сейчас иди.
Зырянка еще раз поклонилась и вышла из покоя.
Федор смотрел ей вослед, яко смотрит инок-молчальник, постник и отшельник на ангела, явившегося ему после того, как он двадцать лет просил Бога о некоем знаке в ответ на его моления.
Аж светился.
И, заметив пытливый взгляд Хворостинина, нимало не смутился. Вот тебе и Касьиха Вань!
– Как она говорила, ты слышал, Дмитрий Иванович? – И, не дожидаясь ответа Хворостинина, даже не глядя на него, а все еще любуясь дверью, чрез которую вышла зырянка, сам себе ответил: – Не говорила даже… нет… слова подобрать не могу…
– Глаголала?
Федор помотал головой:
– Нет, нет, и не глаголала. Глаголет кто? Истину некий древний святитель изглаголал… Вельможа государю правду глаголит. А государь, его много слушав, указ проглаголит… Всё не то! Она… она… журчит. Будто бы ручеёк по камушкам… Она как кошка обласканная урчит… так шр-р-р… шр-р-р… Нет. Она… слово выговаривает, словно роняет лист по осенней поре, и тот лист преждепавших своих товарищей касается с шуршанием… Нет! Нет! Другое. Вот, ближе всего: тихая река меж лесов течет со медленностью и покоем… волн совсем не бывает на ней, но воды ее, смиренные, небурливые, негромкий плеск издают на перекатах. Она – плещет водами слов… Не говорит, не глаголит, но именно плещет… Ежели был бы звук, с коим деревья растут из земли да травы о весне поднимаются, то тако и звучал бы ее голос.
Федор замолчал, и Хворостинин не смел прерывать его дум. Чужую тайну принял он без осуждения, ибо сам был грешен и не дерзал наставлять иных людей во христьянском долге.
Тишенков-младший ходил по палате с волнением. Столь долго отмеривал он шаги, что хватило бы три раза не торопясь прочитать «Верую» от начала и до конца.
Остановился. Вновь заговорил:
– Сказано: женщина в цветении красы своей плывет яко корабль, изготовившийся к бою. Уже щиты подняты, сабли из ножен извлечены, и стрелы наложены рукой умелой на луки… Но краса красе рознь. Та, первая, боевая, побеждается любовью и законом. Коснись ее рукой законного супруга, и уж нет в ней ничего грозного и прельстительного, а есть любовь, лад. А эту ничем победить невозможно. Дмитрий Иванович, не подумай худого, не о блудном грехе рассуждаю, я не блудник, я плотским помыслам своим хозяин. О другом речь. Жила моя Пим в лесах, в веси какой-нибудь малой, вдали от города, от суеты и мелких грешков, кои творим бесчисленно… мы ведь грешим неослабно, как дышим, да еще друг друга на новые грехи толкаем, мол, ничего, потом как-нито отмолится! А она… она без этого всего росла, без нашего дурного кипения. Вот и выросла в чистоте. Не изгрязнилась, не изгрешилась, не скверна ничем страшным и тяжелым. И сама… будто лес, а в нем всякая зверь лесная, и река с рыбою, и езера со цветами езерными, и ветр со облаками на плечах, и дорога, глухую дебрь пронизывающая, и…
Тут Хворостинину явилось правильное имя того, о чем долго со сладостию говорил ему Федор:
– …и всё на свете, яко создал его когда-то Господь Бог, яко было у самых начал, в раю, до того, как бесы и люди поперепортили тут и там. Зырянка твоя… она вроде воспоминанья о Творении… Оттого красу ее не победишь, оттого и касаться ее не следует ни скверной рукой, ни скверной мыслью. Верно ле?
Федор кивнул.
– Хорошо как молвил, Дмитрий Иванович! Лепо! Люблю я книжное слово, ибо оно виноград смысленный и тем слаще медов. Мне бы тако сказать, как ты. А я рассеян сделался, никоторого ума не осталось…
– Еще б! Где отец твой, где брат твой! Как не растеряться?
Федор покачал головой со отрицанием.
– Не от того ум мой смешался. От нее… От моей Пим, от речной жемчужины моей…
Хворостинин вздрогнул от такового совпадения.
– Ты, брат…
– Всё знаю! Взять в жены не могу, оттого что она замужем, да и звания не моего… Правда, вон святой Петр, князь Муромский, бортникову дочь из деревни за себя взял, простую девицу…
– То святой, а то ты! Нет тебе такого пути, род уронишь.
Федор ему отвечать не стал, он толковал про свое, не очень-то и слушая Хворостинина.
– Взять ее спроста – тоже не могу! Душа блуда не приемлет. А и отказаться сил нет. Хочу, чтобы она рядом со мной была, не могу отпустить! Скажешь мне: от мысленного волка звероуловлен, – яко святым Иоанном Златоустом писано?
Хворостинин ничего Федору не ответил. Какие еще есть словеса у Иоанна Златоуста, Бог его знает! То всё для книжников.
– Может, и так. Но я до скверны опуститься себе не позволяю… Как быть? Может, во иноки постричься? Вот благое средство-то для исцеления! Но сказано в Писании: «Крепка, как смерть, любовь; она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее…» Сил нет у меня – пойти в обитель! Или все же пойти?..
Говорил бы Тишенков-младший о душевной своей язве, и говорил бы, и еще бы говорил без унятья, но Хворостинин дал ему угомон – схватил за руку. Тот замолк разом и будто бы ото сна очнулся.
Тогда князь сказал ему:
– А теперь… не при бабе: живот разболелся. Доведи меня до дырки, шурин мой многоценный! Без баб, без дворни, без сраму для меня. Сам. Поможешь ли? Христом Богом…
Тишенков-младший в ответ горестно покачал головой.
– Помочь-то помогу, отчего ж, мы ведь в свойстве с тобой ныне, мало не в родстве. Токмо иначе… Не будет тебе никакой дырки, Дмитрий Иванович. Еще день не будет, а то и два. Прости… на судно пока пойдешь.
Хворостинин аж зубами скрипнул от злости. Больше всего в жизни сей боялся он слабости и беспомощности. Смерть – она что? Она от Бога. Просто твой черед пришел перед Судией отчет держать. Дряхлость, увечье, расслабление – вот горе истинное! Всем в обузу, всем в помеху…
С этой мыслью князь заснул, так и не успев взгромоздиться на судно.
Ослаб!
– Почему эта при моем муже сидит, руками его трогает и под исподней его рубахой пальцами копошится?
Хворостинин проснулся рывком, но объяснить толком ничего не успел:
– Дуняшенька…
А Дуняшенька наяривала не хуже косца ранним утром. Таково отмахивала, что едва только гром с молоньей под крышею не гремел.
– Ну не стыд ли? Федор! Зачем разврат ты тут устроил?! Митенька мой спит, едва живой, а ты к нему какую-то гулящую жонку допустил?!
– Знахарка моя… То для лечбы… рубаху приподнять да под нею повязку бы поправить… – смущенно держал ответ Тишенков-младший.
– Повязку? Поправить? Своему мужу я сама что хочешь поправлю! Никакая знахарка так ему не поправит, как я поправлю! Всё ему поправлю, что надо ему поправить! А больше никому соваться не надо и ничего поправлять ему не надо! Ишь ты, знахарка! В знахарках старухи скрюченные ходют, замшелые да скособоченные, а тут какова пава под бок ему села!