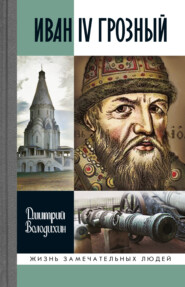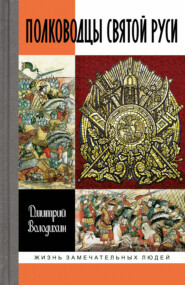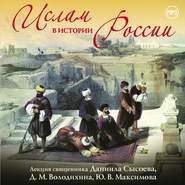По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смертная чаша
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну… раны его не бесчестные, не от дурной какой хворобы, за государя на боях получены.
Только сказала и сей же час поняла: не то. Не вышло Дуне облегчения. Сидит подруга, не шелохнется, кручиной сражена. Очи долу, покровец в сторону отложен, лицо – темное, яко еловый лес.
– Панечка моя, подруженька… а может… может, пора мне к обителям приглядываться? Вот Рожественская Стародевичья обитель, сказывают, всем хороша: чиста, светла, черницы тамошние, почитай, все из древних родов московских…
Тут княгиня Мангупская решительно воткнула иглу в шитьё, глянула строго и молвила:
– Торопился лисовин в курятник, да попал в колодец.
Дуняша вздрогнула.
– Отчего о святой обители такову речь завела?
– А оттого. Не знаешь броду, не суйся в воду. Жизнь там, конечное дело, святая, не мне, грешной про то споры заводить. А только не тако ты еще стара, чтоб в безмужние черницы иттить. Надо б сначала… другого изведать. Чтоб знать, от чего отказ даешь.
– Чай, преподобная-то Евфросиния Полоцкая мужа не знала, и каков светоч из нее вышел? По всей Руси из конца в конец об ней…
– Так-то оно так, – вздохнула Прасковья. – Но и я не с панталыку тебя сбиваю, а вразумить хочу. Больно отец тебя берег, набаловал, излиху разборчив к женихам был и тебя к тому ж приучил. А что ты ноне знаешь? Про то, как монашенки живут, – понаслышке. Про то, как замужем живут, – опять же понаслышке. Во инокини стричься не страшишься. А замуж страшишься… Токмо из девичества да из замужества в обитель ход есть, тебе туда и ноне ворота открыты, и назавтрее открыты будут, и на старости лет еще не закроются. А вот обратным ходом уже не пойтить, всё, черничий наряд надела – так до смерти черница. Успеется!
Дуняша смотрела на Прасковью во все глаза. Отчего такая от нее строгость? Прямо не подруга, прямо не у одного попа закону Божию наставлялись, а словно бы учить ее, Евдокию Тишенкову, какому-нито рукомеслу приставлена и за всякий промах отстегает хворостиною! Между прочим, пятью годами ее, Евдокии Тишенковой моложе! Правда, никакого добра в том нет, что столькими летами она Прасковьи старее… девкин год, он ведь как пуд железа, к ноге прикованный, – и тащить всё тяжельше, и сбросить нельзя.
– Ты дело скажи, – с сухостию обратилась она к подруге. – От монашеской жизни отводишь меня, а о супружестве тож не слышу от тебя доброго слова. Мой-то, видишь, страхолюд, если и достанется мне от Бога. А про твоего, что ни молвь, то всё о суровости. Поколачивает, на подарки не щедр…
– Ну, будет про моего-то, Дуня! Мой, чай, не хуже других, а кого-то и получшей будет! И подарки от него бывают… иногда.
Что за притча! Сколько раз перемывали они кости князю Федору Александровичу Мангупскому, и Прасковья потешалась над ним безлепо, а то и с жесточью. Но только от нее, лучшей подруги, про мужа про своего худое слово услышала, так сразу шелом надела, на коня взгромоздилась и с саблею в руке без жалости рассечь норовит! Воистину, что между женою и мужем творится, то один Бог понять может, а прочим лучше б не лезть, однояко добра не выйдет.
– Ладно же, ни слова больше о нем не скажу! Миримся, Панечка.
И Дуняша ласково погладила подругу по плечу, а та – ее. Обе умилились.
– А все же, Панечка, скажи мне, будто на исповеди: како идти замуж? За чужого, за непонятного, за незнаемого… а тут еще и за такового располосованного… Како весь век не пойми с кем вековать?
– Ну а что? – мягко, пухово заговорила вдруг Прасковья. – Доля бабья такая. Одно дело в девках: как лён цветем, меленькими голубенькими цветочками, красою свежей, тонкою, нежною. Повольно и хорошо, забот мало, всяк тебя ценит, точно златой перстень с камением. Другое дело в бабах: кладут наш лён в жатку, а потом в мятку. Жмут, мнут, теснят, давят, никакой леготы не дают! И вот уж нет цветочков, зато тканина выходит ровна да чиста. Да и жмут-то, бывает… сладостно…
Прасковья к своему ж удивлению зарделась. Чего румянцем-то заливаться, какой толк? Уж вроде вся та любовь давняя избылась, уж вроде и не она заглавной буквицей в душе, а дом, теплота его, запах приятный – от только что испеченного хлеба, от волосиков мало?го, от горьких трав, на веревке сохнущих, от солений, в погреб поставленных, а вот на тебе, вместо сего благолепного устроения мужнина ласка в ум лезет, да какая еще ласка, срамно и подумать! Ой, и вот еще одна, той первой втрое соромнее!
Дуняша, уловив смятение подруги, полезла обниматься, и тут-то пришла к ней обильная слеза, яко дождик на Ильин день – ко богатым хлебам.
– Ой, боюсь я, Па-а-анечка! Чего хочу, сама не зна-а-а-ю… Всё перемеша-алося…
И княгиня Мангупская, государева большого дворянина почтенная супруга, сама того не желая, разревелась ей в лад. В самый раз ко душе пришлось – всласть поплакать.
Дуняша, рыдая врассыпчатую, крупно вздрагивая, свет-Панечку крепко сжимая в объятии, пробормотала наперснице в перси:
– Бают, хоть и страшон, а статен и к людям ласков… Может, и попривыкнется-а-а-а…
К последнему слову добавилось три хныка. Объятие же сделалось крепче, и почуялось в нем вопрошание.
И тут сказала себе Прасковья: «Ух ты! До чего же ты, подруга милая, засиделася…»
Глава 3. Голубиная сила
В сумерках на двор к Федору Тишенкову въехал его брат Кудеяр.
Над старым, привольно раскинувшимся по-над речкой селом Рамонье стояли дымы. Хозяйки на ночь протапливали избы. Зима никак не поворачивала сани свои вдаль, от людей да за край мира. Весенние ветра приходили ненадолго, дышали сыростью, но на смену им вновь являлся мороз, ковал наст да пугал птиц: те только-только пробовали завести свои хлопотливые песни, ан нет, холод замыкал им уста.
Над воротами в усадьбу появилась у Федора затейливая резьба. Вон медведь на задние лапы встал, вон сокола крылья распростерли, вон лисовин крадется. Брат любил при всяком случае изукрасить дом свой и добро в нем рукодельными хитростями. Сундук у него – так с росписью, книга – так с заставками царственного греческого письма, даже упряжь конская – так с узорными бляхами: жуки серебряные, пряжки золоченые, к ним паперсти бархатные да ошеек сафьянный. С месяц назад видел Кудеяр у младшого седло крымское сафьянное, рудо-желтое, травами расшито, с тебеньками, с войлоками мягкими, со всей снастью… княжеская вещь! Надо выкупить у братца. А не даст, так забрать, отобрать, увезть, не по нему эдакое диво!
Одному дворовому бросил Кудеяр поводья – тот обиходит коня. Другому сунул пару утиц, попавших ему под стрелы у самой дороги, и велел:
– Зови хозяина, тетеря!
Тот с поклоном забормотал:
– Чичас… чичас…
Закосолапил в хоромину, под нос себе шепча неразбери-пойми какую пакость, вроде: «Опять чертушку нелегкая принесла»…
Кудеяр отвесил ему пинка для резвости.
Подскочил к нему пес, оббрехал. Пар облачками вырывался из собачьей пасти.
– Ну, разинулся! Раньше лаять надо было, когда я только близ подъезжал! А ты что? Лежабок! Голос подать лень! Так и татя проворонишь!
Все тут, у брата, едва шевелятся!
Пес не унимался, только разозлился пуще и норовил уже цапнуть за ногу. Тогда Кудеяр оскалил зубы и сам зарычал на дерзкую животину. Пес кинулся в сторону, тявкнул визгливо еще раз-другой для порядку, да и полез куда-то в щель под клеть. Укрылся, только глаза и видно.
– Ну, братка, кто кого перегавкал – ты скотину или скотина тебя?
Федор стоял на крыльце, усмехаясь.
Шуба на нем, бархатом червчатым крытая, да на соболе, лисья шапка… Богато живет!
Домовит Федор. Вроде щенок еще, бороду едва отпускать начал, хотя уж двадцать шестая весна в окошко к нему заглянула. Вроде и люди его без грозы живут, медленные, вихлявые, будто сонные… А строение стоит в исправности, скотина родится, в дому водится серебрецо, это сразу видно.
У самого Кудеяра вотчинное село, от отца полученное, было побогаче Рамонья. Да дом погнил, во дворе пророс лопух в пояс мужику, стадце было, так от стадца три кобылы остались. Всё там, в вотчине его, вызывало у Кудеяра досаду. Всё не вовремя. Всё отрывало его от настоящей жизни. Что за хлопоты пустые – скотина, пашня? Скука, зима пришла, а за ней весна пришла, всюду луга да болота, на болотах ивы по пояс в воде, кулики да жабы. Ску-ука… Хлеб растет, да в хлебе ль счастье? Не жизнь ему там! Или бабу завести, пусть пригляд за хозяйствишком держит? А и с бабой скука. Одной бабой разве накушаешься? Вот на Москве – да, жизнь! Кабаки, бои кулачные, на луках состязание, двор государев… А еще того пуще жизнь на украйне, с татарвой саблями перемахиваться. Или на литву за барашнишком ходить, у литвы барашнишко узорное, само в руки просится. Вот – жизнь! Сильный дома не хранит, сильному везде дом, потому что везде он свое возьмет. Сильному – в ветре дом, в замахе сабельном, в буйной скачке. Сильный чести и славы добывает, иного не бережет. А хлеба да избы – это всё мужичье, навозное…
Омужичился брат.
– Знамо, по обычаю богатырскому одолел я зверище-страшилище, бесовское перевесище! – отвечал ему Кудеяр с ухмылкой. – А ты кто такова, красна девица? Пойдешь ли за меня замуж?
Брат засмущался, а потом рассердился. Был он тонок в кости, миловиден и нежнокож, сызмальства дразнили его, приучая за каждое кривое слово, за каждый косой взгляд биться смертным боем, чтобы понял обидчик: с этой «девкой» лучше не связываться. Вспомнил же Кудеярка, ащеул, басалай! Вольно ему зубоскалить…
– Какая девица за того пойдет, у кого хвост на заднице!
– Какой хвост? Не возьму в толк… – завертелся Кудеяр, пытаясь углядеть, что там у него на гузне увидел брат.
Только сказала и сей же час поняла: не то. Не вышло Дуне облегчения. Сидит подруга, не шелохнется, кручиной сражена. Очи долу, покровец в сторону отложен, лицо – темное, яко еловый лес.
– Панечка моя, подруженька… а может… может, пора мне к обителям приглядываться? Вот Рожественская Стародевичья обитель, сказывают, всем хороша: чиста, светла, черницы тамошние, почитай, все из древних родов московских…
Тут княгиня Мангупская решительно воткнула иглу в шитьё, глянула строго и молвила:
– Торопился лисовин в курятник, да попал в колодец.
Дуняша вздрогнула.
– Отчего о святой обители такову речь завела?
– А оттого. Не знаешь броду, не суйся в воду. Жизнь там, конечное дело, святая, не мне, грешной про то споры заводить. А только не тако ты еще стара, чтоб в безмужние черницы иттить. Надо б сначала… другого изведать. Чтоб знать, от чего отказ даешь.
– Чай, преподобная-то Евфросиния Полоцкая мужа не знала, и каков светоч из нее вышел? По всей Руси из конца в конец об ней…
– Так-то оно так, – вздохнула Прасковья. – Но и я не с панталыку тебя сбиваю, а вразумить хочу. Больно отец тебя берег, набаловал, излиху разборчив к женихам был и тебя к тому ж приучил. А что ты ноне знаешь? Про то, как монашенки живут, – понаслышке. Про то, как замужем живут, – опять же понаслышке. Во инокини стричься не страшишься. А замуж страшишься… Токмо из девичества да из замужества в обитель ход есть, тебе туда и ноне ворота открыты, и назавтрее открыты будут, и на старости лет еще не закроются. А вот обратным ходом уже не пойтить, всё, черничий наряд надела – так до смерти черница. Успеется!
Дуняша смотрела на Прасковью во все глаза. Отчего такая от нее строгость? Прямо не подруга, прямо не у одного попа закону Божию наставлялись, а словно бы учить ее, Евдокию Тишенкову, какому-нито рукомеслу приставлена и за всякий промах отстегает хворостиною! Между прочим, пятью годами ее, Евдокии Тишенковой моложе! Правда, никакого добра в том нет, что столькими летами она Прасковьи старее… девкин год, он ведь как пуд железа, к ноге прикованный, – и тащить всё тяжельше, и сбросить нельзя.
– Ты дело скажи, – с сухостию обратилась она к подруге. – От монашеской жизни отводишь меня, а о супружестве тож не слышу от тебя доброго слова. Мой-то, видишь, страхолюд, если и достанется мне от Бога. А про твоего, что ни молвь, то всё о суровости. Поколачивает, на подарки не щедр…
– Ну, будет про моего-то, Дуня! Мой, чай, не хуже других, а кого-то и получшей будет! И подарки от него бывают… иногда.
Что за притча! Сколько раз перемывали они кости князю Федору Александровичу Мангупскому, и Прасковья потешалась над ним безлепо, а то и с жесточью. Но только от нее, лучшей подруги, про мужа про своего худое слово услышала, так сразу шелом надела, на коня взгромоздилась и с саблею в руке без жалости рассечь норовит! Воистину, что между женою и мужем творится, то один Бог понять может, а прочим лучше б не лезть, однояко добра не выйдет.
– Ладно же, ни слова больше о нем не скажу! Миримся, Панечка.
И Дуняша ласково погладила подругу по плечу, а та – ее. Обе умилились.
– А все же, Панечка, скажи мне, будто на исповеди: како идти замуж? За чужого, за непонятного, за незнаемого… а тут еще и за такового располосованного… Како весь век не пойми с кем вековать?
– Ну а что? – мягко, пухово заговорила вдруг Прасковья. – Доля бабья такая. Одно дело в девках: как лён цветем, меленькими голубенькими цветочками, красою свежей, тонкою, нежною. Повольно и хорошо, забот мало, всяк тебя ценит, точно златой перстень с камением. Другое дело в бабах: кладут наш лён в жатку, а потом в мятку. Жмут, мнут, теснят, давят, никакой леготы не дают! И вот уж нет цветочков, зато тканина выходит ровна да чиста. Да и жмут-то, бывает… сладостно…
Прасковья к своему ж удивлению зарделась. Чего румянцем-то заливаться, какой толк? Уж вроде вся та любовь давняя избылась, уж вроде и не она заглавной буквицей в душе, а дом, теплота его, запах приятный – от только что испеченного хлеба, от волосиков мало?го, от горьких трав, на веревке сохнущих, от солений, в погреб поставленных, а вот на тебе, вместо сего благолепного устроения мужнина ласка в ум лезет, да какая еще ласка, срамно и подумать! Ой, и вот еще одна, той первой втрое соромнее!
Дуняша, уловив смятение подруги, полезла обниматься, и тут-то пришла к ней обильная слеза, яко дождик на Ильин день – ко богатым хлебам.
– Ой, боюсь я, Па-а-анечка! Чего хочу, сама не зна-а-а-ю… Всё перемеша-алося…
И княгиня Мангупская, государева большого дворянина почтенная супруга, сама того не желая, разревелась ей в лад. В самый раз ко душе пришлось – всласть поплакать.
Дуняша, рыдая врассыпчатую, крупно вздрагивая, свет-Панечку крепко сжимая в объятии, пробормотала наперснице в перси:
– Бают, хоть и страшон, а статен и к людям ласков… Может, и попривыкнется-а-а-а…
К последнему слову добавилось три хныка. Объятие же сделалось крепче, и почуялось в нем вопрошание.
И тут сказала себе Прасковья: «Ух ты! До чего же ты, подруга милая, засиделася…»
Глава 3. Голубиная сила
В сумерках на двор к Федору Тишенкову въехал его брат Кудеяр.
Над старым, привольно раскинувшимся по-над речкой селом Рамонье стояли дымы. Хозяйки на ночь протапливали избы. Зима никак не поворачивала сани свои вдаль, от людей да за край мира. Весенние ветра приходили ненадолго, дышали сыростью, но на смену им вновь являлся мороз, ковал наст да пугал птиц: те только-только пробовали завести свои хлопотливые песни, ан нет, холод замыкал им уста.
Над воротами в усадьбу появилась у Федора затейливая резьба. Вон медведь на задние лапы встал, вон сокола крылья распростерли, вон лисовин крадется. Брат любил при всяком случае изукрасить дом свой и добро в нем рукодельными хитростями. Сундук у него – так с росписью, книга – так с заставками царственного греческого письма, даже упряжь конская – так с узорными бляхами: жуки серебряные, пряжки золоченые, к ним паперсти бархатные да ошеек сафьянный. С месяц назад видел Кудеяр у младшого седло крымское сафьянное, рудо-желтое, травами расшито, с тебеньками, с войлоками мягкими, со всей снастью… княжеская вещь! Надо выкупить у братца. А не даст, так забрать, отобрать, увезть, не по нему эдакое диво!
Одному дворовому бросил Кудеяр поводья – тот обиходит коня. Другому сунул пару утиц, попавших ему под стрелы у самой дороги, и велел:
– Зови хозяина, тетеря!
Тот с поклоном забормотал:
– Чичас… чичас…
Закосолапил в хоромину, под нос себе шепча неразбери-пойми какую пакость, вроде: «Опять чертушку нелегкая принесла»…
Кудеяр отвесил ему пинка для резвости.
Подскочил к нему пес, оббрехал. Пар облачками вырывался из собачьей пасти.
– Ну, разинулся! Раньше лаять надо было, когда я только близ подъезжал! А ты что? Лежабок! Голос подать лень! Так и татя проворонишь!
Все тут, у брата, едва шевелятся!
Пес не унимался, только разозлился пуще и норовил уже цапнуть за ногу. Тогда Кудеяр оскалил зубы и сам зарычал на дерзкую животину. Пес кинулся в сторону, тявкнул визгливо еще раз-другой для порядку, да и полез куда-то в щель под клеть. Укрылся, только глаза и видно.
– Ну, братка, кто кого перегавкал – ты скотину или скотина тебя?
Федор стоял на крыльце, усмехаясь.
Шуба на нем, бархатом червчатым крытая, да на соболе, лисья шапка… Богато живет!
Домовит Федор. Вроде щенок еще, бороду едва отпускать начал, хотя уж двадцать шестая весна в окошко к нему заглянула. Вроде и люди его без грозы живут, медленные, вихлявые, будто сонные… А строение стоит в исправности, скотина родится, в дому водится серебрецо, это сразу видно.
У самого Кудеяра вотчинное село, от отца полученное, было побогаче Рамонья. Да дом погнил, во дворе пророс лопух в пояс мужику, стадце было, так от стадца три кобылы остались. Всё там, в вотчине его, вызывало у Кудеяра досаду. Всё не вовремя. Всё отрывало его от настоящей жизни. Что за хлопоты пустые – скотина, пашня? Скука, зима пришла, а за ней весна пришла, всюду луга да болота, на болотах ивы по пояс в воде, кулики да жабы. Ску-ука… Хлеб растет, да в хлебе ль счастье? Не жизнь ему там! Или бабу завести, пусть пригляд за хозяйствишком держит? А и с бабой скука. Одной бабой разве накушаешься? Вот на Москве – да, жизнь! Кабаки, бои кулачные, на луках состязание, двор государев… А еще того пуще жизнь на украйне, с татарвой саблями перемахиваться. Или на литву за барашнишком ходить, у литвы барашнишко узорное, само в руки просится. Вот – жизнь! Сильный дома не хранит, сильному везде дом, потому что везде он свое возьмет. Сильному – в ветре дом, в замахе сабельном, в буйной скачке. Сильный чести и славы добывает, иного не бережет. А хлеба да избы – это всё мужичье, навозное…
Омужичился брат.
– Знамо, по обычаю богатырскому одолел я зверище-страшилище, бесовское перевесище! – отвечал ему Кудеяр с ухмылкой. – А ты кто такова, красна девица? Пойдешь ли за меня замуж?
Брат засмущался, а потом рассердился. Был он тонок в кости, миловиден и нежнокож, сызмальства дразнили его, приучая за каждое кривое слово, за каждый косой взгляд биться смертным боем, чтобы понял обидчик: с этой «девкой» лучше не связываться. Вспомнил же Кудеярка, ащеул, басалай! Вольно ему зубоскалить…
– Какая девица за того пойдет, у кого хвост на заднице!
– Какой хвост? Не возьму в толк… – завертелся Кудеяр, пытаясь углядеть, что там у него на гузне увидел брат.