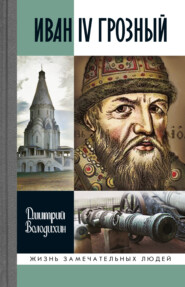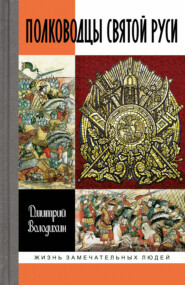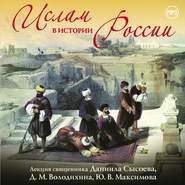По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смертная чаша
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хвост какой? – торжествуя, переспросил его Федор. – А волчий!
Кудеяр застыл, чуя, что его переёрили, и вдруг издал жалостливый вой, долгий, громкий, с коленцами и переливами.
– У-у-у-у-у!
Село Рамонье, и без того тихое по вечерней поре, вчистую онемело. Где скотина помыкивала, там замолкло, где бабы у колодца переговаривались, там тишина, и даже скрип от воротка с ведром, и тот прекратился.
– Страсть Господня… – только и сказал Федор.
Сей же миг всю россыпь изб из конца в конец залило собачьим лаем. Кобели ярились, являя хозяевам службу, а сами знали: не выдадут их люди лютому волчине, с людьми-то дружба, встанут заодно. Робость охолодила собачьи души. И только на околице, на дальнем дворе, хрипел да рвался с цепи пес Задор, отважный волкодав. Этому драку подавай. Этот за хозяина не спрячется.
– О, – услыхал его Кудеяр, – хоть один молодец выискался. Сейчас пойду, сцеплюсь с ним!
И тут из Заречья прозвучал ответный вой, протяжный, с затейливыми озорнинами.
Кудеяр как стоял посреди двора, так и рухнул наземь от хохота.
– Зовет! А? Ты погляди! Зовет! – говорил он, катаясь в снегу. – Может, в гости к лесной родне-то наведаться? С коблами скучно, найду себе волчицу ласкову да зазнакомлюсь!
Наконец встал, отряхнулся, обнялся с братом.
– Рад тебя видеть, Гюргя.
Только Федор так называл его, обычаем старинного времени, когда не различали еще имен Георгий и Юрий, даруя древним богатырям дерзкое звучное имя Гюргий. Старшему брату нравилось. Все прочие именовали его по прозвищу – Кудеяром, товарищи по кулачным проделкам – Кудеяркой, мать – Кудеярушкой, девки – Ярым. А младшой звал так, как надо.
– И я тебя рад видеть, разтетёха.
– Мыленка натоплена, не хочешь ли?
– И то…
Федор засуетился, веля ставить на стол, вынуть из подпола медку хмельного с бражкою и немедля отыскать банного умельца Баламошку, коий веничком да по спинке соловьиные песни выводит…
Разомлевший, в свежих исподниках, тянул Кудеяр из расписной глиняной посудины кислую брагу. Хорошее дело – перемежать бражку с медком: и не раскиснешь, и потроха от сладости не слипнутся. Перед ним стояла бадья с хрусткими белыми груздями, большой пирог с ряпусой – мелкой рыбкой, запеченной до хруста же прямо с косточками, рыбничек с линьками, да плошечка с хренком в сметане, да капустка квашоная, да морёный чесночок. Расстарался Федька! Мяса, правда, ныне от него не допросишься – день постный. Молитвенничек!
– Видел я, седло тебе сафьянное по душе пришлось? Как хорошо, брат! Возьми его себе.
– Ты чего, Федя? Я ж еще и попросить-то его не успел! Да может, и вовсе не просил бы… К чему мне седло твое? Красна, конечное дело, вещь, да на что мне… – Кудеяр без особенной уверенности почесал в затылке.
Выходило к лучшему: страсть как хотелось ему седлецо, ах, седлецо, девкам на загляденьицо! А тут дело ладилось к тому, что без копейки трат перейдет к нему диво крымское. Но пусть Федька поупрашивает, а то, чай, одарит и загордится.
– Дарю тебе, Гюргя. Не чинись, я тебя знаю. Когда брал, на узор загляделся: тонко травы наведены, переплетаются да расходятся… – Федор сделал в воздухе движение рукой, словно бы чертя, куда какая травинка идет. – А потом поразмыслил: отучаться мне надо, брат, покупать вещи ради погляда, а не ради пользы, какая в них заключается. Так что бери, и кончен разговор! Мне наука: от соблазна избавлюсь.
Кудеяр заулыбался:
– Ну, угодил, угодил! Чего говорить, ублаготворил! Должен я тебе, Федька!
– Чего уж должен, глупости.
– Должен, должен, не спорь!
Зная слабость братнюю, Федор распорядился нарядить на стол привозной духовитой селедки. Отведав ее, Кудеяр закряхтел от удовольствия.
– Федька! Поверишь, нет, на Москве потчевал селедочкой одного фряга, розмысла царёва по литейным да пушечным делам, особо духмяную сказал ему дать, самое что ни на есть… ы! – Кудеяр потряс перед носом брата щепотью. – А он что? А? Скривился, мол, вонюче ему, утроба не принимает! Одно слово – нерусь, упырь невнятный, тьфу. Нет, ты поверишь, нет?!
Федор отмахнулся:
– Ну не в обычае у фрягов… Вот свей или немец – да, этим бы понравилось. Правда, смотря откуда еще тот немец приехал…
– Да что ты заладил: то, сё, оттуда, отсюда! Дрянь людишки, и весь сказ! И молвь у них у всех – дрянь, по-нашему разве греки умеют, да у греков фетюк не фетюке, некому в рыло дать, от одного злого взора шарахаются.
Тут Кудеяр шлепнул себя по лбу и радостно воскликнул:
– Нет, вру! Всё вру! А ты прав. Истинно говорю, хоть ты и кисель, а всё ж прав. Есть в немцах толк, и во фрягах тож. На саблях иные как рубятся! Это ж бойцы большие, истые! Меня немец рубиться учил, ты знаешь. Как учил – всего палками избил, меня, Тишенкова! А знатно выучил. И фряг тот, давешний, коего от селедки крючило, сечься горазд. Так, Федя, вели саблю мне принесть. И пускай твою принесут. Прямо сейчас, немедля, а то забуду. Пойдем на двор, я тебе за седло отплачу, такой ударец хитрой покажу, враз человека наземь кладет! От фряга перенял. Пойдем, сидень!
Федор поморщился:
– Да не хочу я… Чего ты? Хорошо же сидим. Вот я лучше книжечку тебе новую покажу… хронограф русский, нового письма… там про войну с литвой изрядно написано…
Но Кудеяр чуть не тумаками вытолкал брата из-за стола. Схватил саблю и вышел на двор прямо в исподнем. Повариха попалась ему по дороге, так он треснул ее саблей плашмя по заднице. А потом шикнул, чтоб унялась и не кудахтала. Раскудахталась, наседка!
– Федя… стоишь не так… нет, ноги не так. Да, теперь ладно встал. Гляди, не торопясь показываю… первый тычок в чело идет… так… он тебе отмахивает, а ты ему второй тычок… вот сюда… в поддых… ясно? Повторяй. Да не проваливайся вперед… вот баляба! Не так. Еще раз… Во-от… На третий раз нет тычка, ты в плечо рубишь… Нет. Нет! Рука у тебя дубовая? Или сосновая? Кистью почему не так вертишь? Еще раз!
Добившись того, что брат с грехом пополам повторил весь урок от начала до конца, Кудеяр нахмурился. Не нравилось ему… не пойми какая кривинка… Не то делал Федор. Нет, с первого взгляда, всё верно. Но не дорубится Федька на третьем ударе до своего противника. В чем дело? Вяло бьет, вяло вертится! Неспешно, как на крестном ходу, а не в драке.
– Больно мяконький ты, Федя. Ровно баба. Жесточи в тебе нет, а без жесточи – какой ты боец? Тьфу, размазня, а не боец. Лихости бы тебе каплю, Федя.
– Лихость, она от слова «лихо», брат.
– А иной раз и щепоть лиха не помешает. На бою мы не девку щупаем, мы котлы чужие с плеч сносим, злых рубщиков рубим. А ты что? Квашня квашнёй. Пропадешь! Что морщишься? Пропадешь ни за хрен в хорошей-то драке, я тебе говорю. Тебе бы сердце б надо окаменять, когда вышел с кем-нито сечься. Не навсегда, а так, на время, потом отмякнешь.
– Ты же братец мне, как я сердце окаменю?
Кудеяр метко харкнул, сбив тонкую сосульку с крыши. Прищурился.
– А хоть бы и брат… в сече братовьев нет. Это уж кто потом жив останется, те глядят, кто кому брат. А покуда рубимся…
Зло ощерившись, он пошел на Федора, поигрывая саблей легко, дерзко, словно мальчишка – гибким ясеневым побегом. Не остановишь, так махнет раз, другой, и вот уже до чела твоего добрался!
– Зло на тебя берет, никчемный ты, ровно мешок с назьмом. Не наш, не Тишенков! Очищу род от хилой крови, – холодно поизносил Кудеяр, придвигаясь к Федору.
Смотрел по-волчьи, точно выбирал, куда впиться зубами.
Федор бросил саблю.
– Ты что, дурень?! Рожу раскромсаю!
– Не могу я, Гюргя, с тобой рубиться, когда ты таков. Злобу в себе напрасно ты будишь. Я страстей не ищу и к чужим страстям не переимчив. А ты… как бы ты образ Божий в себе не исковеркал. – Федор говорил твердо и с прохладцею. – Не люблю таких игрищ, не балуйся!
Кудеяр застыл, чуя, что его переёрили, и вдруг издал жалостливый вой, долгий, громкий, с коленцами и переливами.
– У-у-у-у-у!
Село Рамонье, и без того тихое по вечерней поре, вчистую онемело. Где скотина помыкивала, там замолкло, где бабы у колодца переговаривались, там тишина, и даже скрип от воротка с ведром, и тот прекратился.
– Страсть Господня… – только и сказал Федор.
Сей же миг всю россыпь изб из конца в конец залило собачьим лаем. Кобели ярились, являя хозяевам службу, а сами знали: не выдадут их люди лютому волчине, с людьми-то дружба, встанут заодно. Робость охолодила собачьи души. И только на околице, на дальнем дворе, хрипел да рвался с цепи пес Задор, отважный волкодав. Этому драку подавай. Этот за хозяина не спрячется.
– О, – услыхал его Кудеяр, – хоть один молодец выискался. Сейчас пойду, сцеплюсь с ним!
И тут из Заречья прозвучал ответный вой, протяжный, с затейливыми озорнинами.
Кудеяр как стоял посреди двора, так и рухнул наземь от хохота.
– Зовет! А? Ты погляди! Зовет! – говорил он, катаясь в снегу. – Может, в гости к лесной родне-то наведаться? С коблами скучно, найду себе волчицу ласкову да зазнакомлюсь!
Наконец встал, отряхнулся, обнялся с братом.
– Рад тебя видеть, Гюргя.
Только Федор так называл его, обычаем старинного времени, когда не различали еще имен Георгий и Юрий, даруя древним богатырям дерзкое звучное имя Гюргий. Старшему брату нравилось. Все прочие именовали его по прозвищу – Кудеяром, товарищи по кулачным проделкам – Кудеяркой, мать – Кудеярушкой, девки – Ярым. А младшой звал так, как надо.
– И я тебя рад видеть, разтетёха.
– Мыленка натоплена, не хочешь ли?
– И то…
Федор засуетился, веля ставить на стол, вынуть из подпола медку хмельного с бражкою и немедля отыскать банного умельца Баламошку, коий веничком да по спинке соловьиные песни выводит…
Разомлевший, в свежих исподниках, тянул Кудеяр из расписной глиняной посудины кислую брагу. Хорошее дело – перемежать бражку с медком: и не раскиснешь, и потроха от сладости не слипнутся. Перед ним стояла бадья с хрусткими белыми груздями, большой пирог с ряпусой – мелкой рыбкой, запеченной до хруста же прямо с косточками, рыбничек с линьками, да плошечка с хренком в сметане, да капустка квашоная, да морёный чесночок. Расстарался Федька! Мяса, правда, ныне от него не допросишься – день постный. Молитвенничек!
– Видел я, седло тебе сафьянное по душе пришлось? Как хорошо, брат! Возьми его себе.
– Ты чего, Федя? Я ж еще и попросить-то его не успел! Да может, и вовсе не просил бы… К чему мне седло твое? Красна, конечное дело, вещь, да на что мне… – Кудеяр без особенной уверенности почесал в затылке.
Выходило к лучшему: страсть как хотелось ему седлецо, ах, седлецо, девкам на загляденьицо! А тут дело ладилось к тому, что без копейки трат перейдет к нему диво крымское. Но пусть Федька поупрашивает, а то, чай, одарит и загордится.
– Дарю тебе, Гюргя. Не чинись, я тебя знаю. Когда брал, на узор загляделся: тонко травы наведены, переплетаются да расходятся… – Федор сделал в воздухе движение рукой, словно бы чертя, куда какая травинка идет. – А потом поразмыслил: отучаться мне надо, брат, покупать вещи ради погляда, а не ради пользы, какая в них заключается. Так что бери, и кончен разговор! Мне наука: от соблазна избавлюсь.
Кудеяр заулыбался:
– Ну, угодил, угодил! Чего говорить, ублаготворил! Должен я тебе, Федька!
– Чего уж должен, глупости.
– Должен, должен, не спорь!
Зная слабость братнюю, Федор распорядился нарядить на стол привозной духовитой селедки. Отведав ее, Кудеяр закряхтел от удовольствия.
– Федька! Поверишь, нет, на Москве потчевал селедочкой одного фряга, розмысла царёва по литейным да пушечным делам, особо духмяную сказал ему дать, самое что ни на есть… ы! – Кудеяр потряс перед носом брата щепотью. – А он что? А? Скривился, мол, вонюче ему, утроба не принимает! Одно слово – нерусь, упырь невнятный, тьфу. Нет, ты поверишь, нет?!
Федор отмахнулся:
– Ну не в обычае у фрягов… Вот свей или немец – да, этим бы понравилось. Правда, смотря откуда еще тот немец приехал…
– Да что ты заладил: то, сё, оттуда, отсюда! Дрянь людишки, и весь сказ! И молвь у них у всех – дрянь, по-нашему разве греки умеют, да у греков фетюк не фетюке, некому в рыло дать, от одного злого взора шарахаются.
Тут Кудеяр шлепнул себя по лбу и радостно воскликнул:
– Нет, вру! Всё вру! А ты прав. Истинно говорю, хоть ты и кисель, а всё ж прав. Есть в немцах толк, и во фрягах тож. На саблях иные как рубятся! Это ж бойцы большие, истые! Меня немец рубиться учил, ты знаешь. Как учил – всего палками избил, меня, Тишенкова! А знатно выучил. И фряг тот, давешний, коего от селедки крючило, сечься горазд. Так, Федя, вели саблю мне принесть. И пускай твою принесут. Прямо сейчас, немедля, а то забуду. Пойдем на двор, я тебе за седло отплачу, такой ударец хитрой покажу, враз человека наземь кладет! От фряга перенял. Пойдем, сидень!
Федор поморщился:
– Да не хочу я… Чего ты? Хорошо же сидим. Вот я лучше книжечку тебе новую покажу… хронограф русский, нового письма… там про войну с литвой изрядно написано…
Но Кудеяр чуть не тумаками вытолкал брата из-за стола. Схватил саблю и вышел на двор прямо в исподнем. Повариха попалась ему по дороге, так он треснул ее саблей плашмя по заднице. А потом шикнул, чтоб унялась и не кудахтала. Раскудахталась, наседка!
– Федя… стоишь не так… нет, ноги не так. Да, теперь ладно встал. Гляди, не торопясь показываю… первый тычок в чело идет… так… он тебе отмахивает, а ты ему второй тычок… вот сюда… в поддых… ясно? Повторяй. Да не проваливайся вперед… вот баляба! Не так. Еще раз… Во-от… На третий раз нет тычка, ты в плечо рубишь… Нет. Нет! Рука у тебя дубовая? Или сосновая? Кистью почему не так вертишь? Еще раз!
Добившись того, что брат с грехом пополам повторил весь урок от начала до конца, Кудеяр нахмурился. Не нравилось ему… не пойми какая кривинка… Не то делал Федор. Нет, с первого взгляда, всё верно. Но не дорубится Федька на третьем ударе до своего противника. В чем дело? Вяло бьет, вяло вертится! Неспешно, как на крестном ходу, а не в драке.
– Больно мяконький ты, Федя. Ровно баба. Жесточи в тебе нет, а без жесточи – какой ты боец? Тьфу, размазня, а не боец. Лихости бы тебе каплю, Федя.
– Лихость, она от слова «лихо», брат.
– А иной раз и щепоть лиха не помешает. На бою мы не девку щупаем, мы котлы чужие с плеч сносим, злых рубщиков рубим. А ты что? Квашня квашнёй. Пропадешь! Что морщишься? Пропадешь ни за хрен в хорошей-то драке, я тебе говорю. Тебе бы сердце б надо окаменять, когда вышел с кем-нито сечься. Не навсегда, а так, на время, потом отмякнешь.
– Ты же братец мне, как я сердце окаменю?
Кудеяр метко харкнул, сбив тонкую сосульку с крыши. Прищурился.
– А хоть бы и брат… в сече братовьев нет. Это уж кто потом жив останется, те глядят, кто кому брат. А покуда рубимся…
Зло ощерившись, он пошел на Федора, поигрывая саблей легко, дерзко, словно мальчишка – гибким ясеневым побегом. Не остановишь, так махнет раз, другой, и вот уже до чела твоего добрался!
– Зло на тебя берет, никчемный ты, ровно мешок с назьмом. Не наш, не Тишенков! Очищу род от хилой крови, – холодно поизносил Кудеяр, придвигаясь к Федору.
Смотрел по-волчьи, точно выбирал, куда впиться зубами.
Федор бросил саблю.
– Ты что, дурень?! Рожу раскромсаю!
– Не могу я, Гюргя, с тобой рубиться, когда ты таков. Злобу в себе напрасно ты будишь. Я страстей не ищу и к чужим страстям не переимчив. А ты… как бы ты образ Божий в себе не исковеркал. – Федор говорил твердо и с прохладцею. – Не люблю таких игрищ, не балуйся!