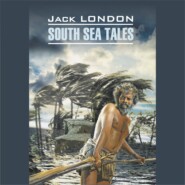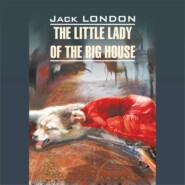По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Любовь к жизни (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наверное, ответить смогли бы две сложенные из камней могилы, но они молчали. Чьи руки соорудили на каждой пусть и примитивное, но вечное надгробие?
Настал решающий момент. Запрягавший собак Жак Батист прервал занятие и заставил животных смирно лежать на снегу. Повар зна?ком попросил еще одну секунду, бросил в кипящий котел с фасолью пригоршню вяленого бекона и замер в ожидании. Слоупер встал. Сложение этого мужественного человека резко контрастировало с цветущей внешностью слабаков. Желтый, истощенный, он вырвался из глухого закоулка Южной Америки, где свирепствовала лютая лихорадка, однако держался стойко и без жалоб преодолевал трудности, честно деля работу со спутниками. Весил он не более девяноста фунтов, да и то вместе с тяжелым охотничьим ножом, а седина в волосах предательски выдавала возраст. Свежие молодые мускулы Уэзерби и Катферта обладали в десять раз большей силой, но Слоупер спокойно выдерживал дневной переход, а те падали от усталости. Целый день Слоупер убеждал самых крепких духом товарищей отважиться на тысячу миль тяжелейших испытаний. В этом человеке воплотился беспокойный характер его народа, а тевтонское упрямство в сочетании со сметливостью и деловитостью янки надежно держало тело во власти духа.
– Все, кто готов продолжить путь с собаками, как только окрепнет лед, скажите «да».
– Да! – дружно раздались восемь голосов. За многие сотни миль тяжелейшего пути каждому из их обладателей предстояло не однажды проклясть это мгновение.
– Кто против?
– Мы!
Впервые два отщепенца объединились без учета личных интересов каждого.
– Как же собираетесь поступить? – раздраженно уточнил Картер Уэзерби.
– Большинство решает! Пусть подчиняются большинству! – потребовали остальные.
– Понимаю, что если вы с нами не пойдете, то экспедиция наверняка провалится, – спокойно произнес Слоупер. – И все же надеюсь, что, если очень постараться, удастся обойтись и без вас. Что скажете, парни?
Ответом послужил одобрительный гул.
– Вот только хотелось бы узнать, – осторожно осведомился Перси Катферт, – что теперь делать, например, мне?
– Идешь с нами?
– Не-е-ет.
– Значит, делай все, что угодно, черт возьми. Нам-то какая разница?
– Полагаю, можешь обсудить этот вопрос со своим дорогим дружком, – презрительно протянул крепкий уроженец Дакоты и показал на Уэзерби. – Как только потребуется сварить еду или принести дров, он сразу объяснит, как тебе поступить.
– Значит, решено, – сказал Слоупер. – Завтра выходим. Пройдем пять миль и сделаем остановку: убедимся, что все в порядке и ничего не забыли.
И вот сани заскрипели обитыми сталью полозьями; собаки до отказа натянули упряжь, в которой им суждено было умереть.
Жак Батист остановился рядом со Слоупером и напоследок окинул взглядом хижину. Из трубы железной юконской печки поднималась тонкая струйка дыма. Возле двери стояли двое разочаровавшихся в северной романтике отщепенцев и с тайным злорадством наблюдали за отъездом безумных упрямцев. Слоупер положил ладонь на плечо проводника.
– Жак Батист, тебе доводилось слышать историю о котах из Килкенни?
Метис покачал головой.
– Так вот, друг мой и верный товарищ: два кота из Килкенни дрались до тех пор, пока от них не осталось ничего: ни клочка шерсти, ни кусочка шкуры, ни единого «мяу». Ничего. Понимаешь? Все исчезло. Так вот, эти двое терпеть не могут работу. Остаются в хижине на всю зиму – долгую, холодную, темную зиму. Похоже на котов из Килкенни, правда?
Жак Батист пожал плечами и мудро промолчал, однако движение оказалось красноречивым, если не пророческим. На первых порах обитатели хижины жили припеваючи. Грубые насмешки товарищей заставили Уэзерби и Катферта осознать объединившую их взаимную ответственность. К тому же для двух здоровых мужчин работы оказалось не так уж много, а внезапное освобождение от нестерпимого гнета со стороны грозного метиса отозвалось в душах радостью. Поначалу каждый старался доказать другому, на что горазд, и оба выполняли мелкую работу с рвением, способным удивить бывших спутников, изнуряющих тела и души в долгой мучительной дороге.
Все неприятности отступили. Лес, приближавшийся к хижине с трех сторон, служил неистощимым источником дров. С четвертой стороны, на расстоянии несколько ярдов, дремала река Поркьюпайн. Прорубь в сковавшем ее ледяном панцире предоставила свободный доступ к воде – кристально чистой и нестерпимо холодной, – однако вскоре даже это благо обернулось трудностью. Прорубь постоянно замерзала, и приходилось подолгу долбить твердый как камень лед. Неведомые строители хижины продлили боковые бревна таким образом, что у задней стены появилось надежное хранилище для припасов. Сюда сложили немалую часть заготовленной на партию провизии.
Еды осталось по меньшей мере в три раза больше, чем требовалось двоим зимовщикам. Жаль только, что почти все продукты поддерживали силу и энергию, однако не радовали вкус.
Правда, нашелся сахар, причем в огромном количестве, но эти двое оказались хуже маленьких детей. Оба быстро обнаружили достоинства щедро сдобренной сахаром воды и принялись расточительно макать оладьи и сухари в густой белый сироп. Кофе, чай и особенно сухофрукты также требовали обилия сахара, так что первая размолвка возникла именно по этому поводу. А если два человека, полностью зависящие друг от друга, начинают ссориться, значит, беда не за горами.
Уэзерби любил громко рассуждать о политике. Катферт же, напротив, предпочитал стричь купоны, не думая о том, как именно государство решает свои проблемы. Поэтому в ответ он лишь угрюмо молчал или разражался колкими насмешками. Однако клерк оказался недостаточно смышленым, чтобы по достоинству оценить остроумие собеседника; напрасная трата драгоценных умственных усилий обескураживала Катферта. Он привык поражать общество блеском собственного красноречия, так что потеря заинтересованной аудитории доставила серьезное разочарование. Катферт чувствовал себя недооцененным и уязвленным в лучших чувствах, а потому подсознательно винил в неудаче туповатого товарища.
Помимо бытовых проблем вынужденных соседей ничто не связывало, не существовало ни единой темы для разговора.
Всю жизнь Картер Уэзерби прослужил клерком и не успел узнать ничего помимо канцелярской работы. Перси Катферт получил диплом магистра искусств, сам баловался живописью и пробовал силы в литературе. Первый принадлежал к низшему классу, однако считал себя джентльменом, в то время как второй действительно был джентльменом и по праву сознавал себя таковым. Отсюда следует вывод, что человек может оставаться джентльменом, не обладая природным инстинктом товарищества. Клерк воспринимал мир настолько же чувственно и плотски, насколько джентльмен рассматривал его с эстетической точки зрения, а потому долгие рассуждения о вымышленной любви к приключениям действовали на любителя изящных искусств примерно так же, как равное количество испарений из сточной канавы. Магистр считал клерка грязным, невоспитанным дикарем, чье место в хлеву рядом со свиньями, и однажды прямо об этом заявил, а в ответ услышал, что сам он баба и размазня, да к тому же еще и хам. Что именно в данном контексте означало слово «хам», Уэзерби не смог бы объяснить, однако оно достигло цели, а это главное.
Уэзерби пел страшно фальшиво, но мог часами напролет исполнять такие шедевры как «Бостонский бандит» и «Красавчик юнга». Катферт плакал от ярости, а потом не выдерживал и выскакивал из хижины. Однако деваться было некуда. Лютый мороз сразу загонял его обратно, в ненавистную тесноту. Две койки, печка, стол и двое взрослых мужчин на территории площадью десять на двенадцать футов. В подобных условиях само присутствие другого человека превращалось в личное оскорбление. Обитатели хижины постоянно впадали в угрюмое молчание, с каждым днем становившееся все мрачнее, глубже и продолжительнее. Порой для начала ссоры хватало лишь косого взгляда или недовольного выражения лица, хотя во время этих враждебных периодов каждый старался не замечать другого.
В сознании обоих зрел молчаливый и оттого еще более острый вопрос: как Господь позволил появиться на свет подобному чудовищу?
В томительном безделье часы тянулись нестерпимо медленно. Естественно, что от этого лентяи стали еще ленивее, впали в физическую летаргию, вырваться из которой уже не представлялось возможным, и начали бояться любой, даже самой простой и легкой, работы. Однажды утром, когда настала очередь готовить обычный завтрак, Картер Уэзерби вылез из-под одеяла, под храп товарища зажег сальную лампу и развел огонь в печи. Вода в котелке замерзла, умыться было нечем, однако он не огорчился. Ожидая, пока вода растает, нарезал бекон и принялся за ненавистный ритуал выпекания хлеба. Все это время Перси Катферт злорадно наблюдал за соседом из-под полуопущенных век.
Возникла ссора, во время которой ни один не поскупился на яростные проклятия. В результате было решено, что отныне и впредь каждый готовит еду только для себя. Неделю спустя Катферт обошелся без водных процедур, однако с удовольствием позавтракал. Уэзерби молча, саркастически усмехнулся. После этого глупая привычка умываться навсегда покинула насквозь промерзшую хижину.
По мере того как запасы сахара и других скромных лакомств скудели, каждый начал бояться, что не получает справедливой доли. Чтобы не позволить сопернику обобрать себя, оба начали объедаться. Соревнование в обжорстве навредило не только припасам, но и людям.
В отсутствие свежих овощей и движения кровь оскудела, а тела покрылись мерзкой лиловой сыпью. Однако зимовщики пренебрегли этим красноречивым предупреждением. Затем начали распухать суставы и мышцы, кожа почернела, а язык, десны и губы приобрели цвет жирных сливок. Вместо того чтобы сплотиться в несчастье, оба тайно злорадствовали над симптомами врага, а цинга тем временем коварно наступала.
Вскоре Катферт и Уэзерби утратили всякий интерес к собственной внешности, а заодно перестали соблюдать простейшие правила приличия. Хижина превратилась в хлев; постели больше никто не заправлял, да и свежий еловый лапник не подстилал. Но постоянно лежать под одеялами, как того хотелось, зимовщики не могли: мороз становился суровее, а железная печка жадно поглощала дрова. Волосы и бороды у обоих неопрятно отросли, а одежда отпугнула бы даже самого непритязательного старьевщика. Однако подобные мелочи уже никого не волновали. Оба были тяжело больны и не заботились о внешнем виде. К тому же каждое движение доставляло острые мучения.
Вскоре добавилось новое несчастье – страх перед Севером, порожденный великим холодом и великим безмолвием. Страх возник в декабрьской тьме, когда солнце навеки спряталось за горизонтом. Каждый страдал по-своему. Уэзерби пал жертвой грубых суеверий и начал общаться с духами, спавшими в забытых могилах. Занятие быстро лишило воли; отныне призраки являлись к нему во сне и залезали под одеяло, чтобы рассказать о былых трудах и горестях. Напрасно Картер Уэзерби сторонился, пытаясь увернуться от ледяных прикосновений. Жуткие существа прижимались все теснее, гладили ноги своими холодными ногами и шептали на ухо страшные пророчества. В такие моменты хижина оглашалась диким криком. Перси Катферт не понимал, что происходит, поскольку общение давно прекратилось. Всякий раз он хватался за револьвер и подолгу сидел в темноте, нервно дрожа и направив дуло на ничего не подозревавшего соседа. Он считал, что Уэзерби сходит с ума, и опасался за свою жизнь.
Его собственная болезнь протекала в менее определенной, агрессивной форме. Таинственный строитель, сложивший хижину бревно за бревном, прикрепил на конек крыши флюгер в виде полумесяца. Катферт заметил, что концы серпа всегда указывают на юг, и однажды в порыве раздражения намеренно повернул полумесяц на восток и начал терпеливо наблюдать, однако ни единое дуновение не нарушило неподвижности железной фигуры. Тогда он повернул флюгер на север и поклялся не прикасаться, пока не поднимется ветер, но воздух пребывал в неземном покое. Часто Катферт вставал среди ночи, чтобы проверить, не повернулся ли серп. Даже малейшего отклонения в десять градусов оказалось бы достаточно. Нет, флюгер замер в неподвижности столь же неотступной, как сама судьба.
Воображение вышло из повиновения, и кусок железа на крыше превратился в фетиш. Порой Катферт следовал по указанному флюгером мрачному пути, и душа наполнялась страхом. До тех пор размышлял он о невидимом и неведомом, пока гнет вечности не становился невыносимо тяжелым, угрожая раздавить. На Севере все обладало сокрушительной силой: отсутствие жизни и движения; темнота; бесконечный покой застывшей земли; отвратительная тишина, где даже стук сердца казался кощунством; торжественный мрачный лес, хранивший ужасную, не выразимую ни словами, ни мыслями тайну.
Недавно покинутый мир с шумными городами и деловой суетой погрузился в небытие. Правда, воспоминания посещали Катферта – об аукционных залах, галереях, оживленных улицах, вечерних нарядах и светских раутах, о приятных мужчинах и милых дамах, которых довелось встретить. Но все это происходило в иной, далекой жизни, много веков назад, на другой планете. А вот этот фантом превратился в реальность. Стоя под флюгером и устремив взгляд в черное полярное небо, Перси Катферт никак не мог осознать, что южные края действительно существуют и в эту минуту там бурно кипит жизнь. Нет, никакого юга не было и в помине. Не рождались на свет мужчины и женщины, никто не женился и не выходил замуж. За холодным горизонтом простирались бескрайние пустые пространства, а за ними открывались новые, еще более обширные безлюдные дали. Нигде не светило солнце, не благоухали цветы. Эти образы не более чем вечная мечта о рае. Зеленые просторы Запада, пряные ароматы Востока, улыбающиеся сады Аркадии и благословенные Острова Блаженных… Ха-ха-ха! Собственный смех грубо рассек молчаливый мрак и напугал своим странным звуком. Солнца не существовало.
Существовала лишь Вселенная – мертвая, холодная и темная, – и в кромешной пустоте он, ее единственный обитатель. Уэзерби? В такие моменты Уэзерби в счет не шел. Он представлялся Калибаном – страшным призраком, навечно прикованным к Катферту в наказание за давний, забытый грех.
Он жил со смертью среди мертвых, обессиленный сознанием собственной ничтожности, раздавленный неподвижной тяжестью дремлющих веков. Величие окружающего мира потрясало и приводило в смятение. Все сущее, кроме него самого, достигало абсолюта: полное отсутствие ветра и движения, бескрайние просторы укрытой снегом дикой земли, высота небес и глубина вечного безмолвия. Флюгер… если бы только серп сдвинулся с места… если бы вдруг грянул гром или вспыхнул в пожаре лес…
Если бы небо свернулось в свиток, судьба нанесла внезапный удар… все, что угодно! Но нет, ничто вокруг не шелохнулось; безмолвие властвовало над миром, и страх перед Севером крепче сжимал сердце ледяными когтями.
Однажды, подобно Робинзону Крузо, на берегу реки Катферт увидел следы – оставшийся на тонком насте легкий отпечаток заячьих лап. Открытие потрясло его. Оказывается, на Севере есть жизнь! Не отрывая взгляда, торжествуя, он пошел по следу. Охваченный экстазом предчувствия, забыв о распухших суставах, Катферт лез по глубокому снегу. Лес обступил со всех сторон, мимолетные сумерки погасли, однако он продолжал погоню до тех пор, пока в полном изнеможении, в отчаянии не рухнул в снег.
Наконец, проклиная собственную глупость, Перси Катферт понял, что след существует только в воспаленном воображении. Лишь поздней ночью он ползком вернулся в хижину с отмороженными щеками и странно онемевшими ногами. Уэзерби помощи не предложил, зато злобно усмехнулся. Катферт колол пальцы ног иголками, грел возле печки, но напрасно. Через неделю началась гангрена.
Клерк тем временем переживал собственные жестокие испытания. Мертвецы все чаще покидали свои могилы, ни днем, ни ночью не оставляя в покое. Он постоянно ждал их, а мимо двух каменных пирамид проходил не иначе как с содроганием. Однажды призраки явились во сне и увели с собой. В ужасе Уэзерби проснулся между могилами и поспешил вернуться в хижину, но, судя по всему, на снегу он лежал долго: щеки и ноги тоже оказались отмороженными.
Порой постоянное присутствие мертвецов доводило Картера Уэзерби до отчаяния, и он начинал дико метаться по хижине, размахивая топором и круша все вокруг.
Во время сражений с призраками Катферт прятался под одеяло и напряженно следил за одержимым, сжимая в руке заряженный револьвер, чтобы выстрелить, если тот подбежит слишком близко.
Однажды, очнувшись от припадка, клерк заметил направленное на него дуло.
Отныне и его охватил страх за собственную жизнь. С этого дня взаимная слежка не прекращалась ни на минуту, а если одному случалось пройти за спиной другого, тот нервно оборачивался. Ужас перед соседом не отступал и во сне, превратившись в навязчивую идею. Тусклая сальная лампа теперь светила даже по ночам; ложась спать, оба проверяли, достаточно ли в ней жира. Малейшее движение с вражеской стороны хижины заставляло проснуться; много бессонных часов провели оба, дрожа под одеялами и держа пальцы на спусковых крючках.
Настал решающий момент. Запрягавший собак Жак Батист прервал занятие и заставил животных смирно лежать на снегу. Повар зна?ком попросил еще одну секунду, бросил в кипящий котел с фасолью пригоршню вяленого бекона и замер в ожидании. Слоупер встал. Сложение этого мужественного человека резко контрастировало с цветущей внешностью слабаков. Желтый, истощенный, он вырвался из глухого закоулка Южной Америки, где свирепствовала лютая лихорадка, однако держался стойко и без жалоб преодолевал трудности, честно деля работу со спутниками. Весил он не более девяноста фунтов, да и то вместе с тяжелым охотничьим ножом, а седина в волосах предательски выдавала возраст. Свежие молодые мускулы Уэзерби и Катферта обладали в десять раз большей силой, но Слоупер спокойно выдерживал дневной переход, а те падали от усталости. Целый день Слоупер убеждал самых крепких духом товарищей отважиться на тысячу миль тяжелейших испытаний. В этом человеке воплотился беспокойный характер его народа, а тевтонское упрямство в сочетании со сметливостью и деловитостью янки надежно держало тело во власти духа.
– Все, кто готов продолжить путь с собаками, как только окрепнет лед, скажите «да».
– Да! – дружно раздались восемь голосов. За многие сотни миль тяжелейшего пути каждому из их обладателей предстояло не однажды проклясть это мгновение.
– Кто против?
– Мы!
Впервые два отщепенца объединились без учета личных интересов каждого.
– Как же собираетесь поступить? – раздраженно уточнил Картер Уэзерби.
– Большинство решает! Пусть подчиняются большинству! – потребовали остальные.
– Понимаю, что если вы с нами не пойдете, то экспедиция наверняка провалится, – спокойно произнес Слоупер. – И все же надеюсь, что, если очень постараться, удастся обойтись и без вас. Что скажете, парни?
Ответом послужил одобрительный гул.
– Вот только хотелось бы узнать, – осторожно осведомился Перси Катферт, – что теперь делать, например, мне?
– Идешь с нами?
– Не-е-ет.
– Значит, делай все, что угодно, черт возьми. Нам-то какая разница?
– Полагаю, можешь обсудить этот вопрос со своим дорогим дружком, – презрительно протянул крепкий уроженец Дакоты и показал на Уэзерби. – Как только потребуется сварить еду или принести дров, он сразу объяснит, как тебе поступить.
– Значит, решено, – сказал Слоупер. – Завтра выходим. Пройдем пять миль и сделаем остановку: убедимся, что все в порядке и ничего не забыли.
И вот сани заскрипели обитыми сталью полозьями; собаки до отказа натянули упряжь, в которой им суждено было умереть.
Жак Батист остановился рядом со Слоупером и напоследок окинул взглядом хижину. Из трубы железной юконской печки поднималась тонкая струйка дыма. Возле двери стояли двое разочаровавшихся в северной романтике отщепенцев и с тайным злорадством наблюдали за отъездом безумных упрямцев. Слоупер положил ладонь на плечо проводника.
– Жак Батист, тебе доводилось слышать историю о котах из Килкенни?
Метис покачал головой.
– Так вот, друг мой и верный товарищ: два кота из Килкенни дрались до тех пор, пока от них не осталось ничего: ни клочка шерсти, ни кусочка шкуры, ни единого «мяу». Ничего. Понимаешь? Все исчезло. Так вот, эти двое терпеть не могут работу. Остаются в хижине на всю зиму – долгую, холодную, темную зиму. Похоже на котов из Килкенни, правда?
Жак Батист пожал плечами и мудро промолчал, однако движение оказалось красноречивым, если не пророческим. На первых порах обитатели хижины жили припеваючи. Грубые насмешки товарищей заставили Уэзерби и Катферта осознать объединившую их взаимную ответственность. К тому же для двух здоровых мужчин работы оказалось не так уж много, а внезапное освобождение от нестерпимого гнета со стороны грозного метиса отозвалось в душах радостью. Поначалу каждый старался доказать другому, на что горазд, и оба выполняли мелкую работу с рвением, способным удивить бывших спутников, изнуряющих тела и души в долгой мучительной дороге.
Все неприятности отступили. Лес, приближавшийся к хижине с трех сторон, служил неистощимым источником дров. С четвертой стороны, на расстоянии несколько ярдов, дремала река Поркьюпайн. Прорубь в сковавшем ее ледяном панцире предоставила свободный доступ к воде – кристально чистой и нестерпимо холодной, – однако вскоре даже это благо обернулось трудностью. Прорубь постоянно замерзала, и приходилось подолгу долбить твердый как камень лед. Неведомые строители хижины продлили боковые бревна таким образом, что у задней стены появилось надежное хранилище для припасов. Сюда сложили немалую часть заготовленной на партию провизии.
Еды осталось по меньшей мере в три раза больше, чем требовалось двоим зимовщикам. Жаль только, что почти все продукты поддерживали силу и энергию, однако не радовали вкус.
Правда, нашелся сахар, причем в огромном количестве, но эти двое оказались хуже маленьких детей. Оба быстро обнаружили достоинства щедро сдобренной сахаром воды и принялись расточительно макать оладьи и сухари в густой белый сироп. Кофе, чай и особенно сухофрукты также требовали обилия сахара, так что первая размолвка возникла именно по этому поводу. А если два человека, полностью зависящие друг от друга, начинают ссориться, значит, беда не за горами.
Уэзерби любил громко рассуждать о политике. Катферт же, напротив, предпочитал стричь купоны, не думая о том, как именно государство решает свои проблемы. Поэтому в ответ он лишь угрюмо молчал или разражался колкими насмешками. Однако клерк оказался недостаточно смышленым, чтобы по достоинству оценить остроумие собеседника; напрасная трата драгоценных умственных усилий обескураживала Катферта. Он привык поражать общество блеском собственного красноречия, так что потеря заинтересованной аудитории доставила серьезное разочарование. Катферт чувствовал себя недооцененным и уязвленным в лучших чувствах, а потому подсознательно винил в неудаче туповатого товарища.
Помимо бытовых проблем вынужденных соседей ничто не связывало, не существовало ни единой темы для разговора.
Всю жизнь Картер Уэзерби прослужил клерком и не успел узнать ничего помимо канцелярской работы. Перси Катферт получил диплом магистра искусств, сам баловался живописью и пробовал силы в литературе. Первый принадлежал к низшему классу, однако считал себя джентльменом, в то время как второй действительно был джентльменом и по праву сознавал себя таковым. Отсюда следует вывод, что человек может оставаться джентльменом, не обладая природным инстинктом товарищества. Клерк воспринимал мир настолько же чувственно и плотски, насколько джентльмен рассматривал его с эстетической точки зрения, а потому долгие рассуждения о вымышленной любви к приключениям действовали на любителя изящных искусств примерно так же, как равное количество испарений из сточной канавы. Магистр считал клерка грязным, невоспитанным дикарем, чье место в хлеву рядом со свиньями, и однажды прямо об этом заявил, а в ответ услышал, что сам он баба и размазня, да к тому же еще и хам. Что именно в данном контексте означало слово «хам», Уэзерби не смог бы объяснить, однако оно достигло цели, а это главное.
Уэзерби пел страшно фальшиво, но мог часами напролет исполнять такие шедевры как «Бостонский бандит» и «Красавчик юнга». Катферт плакал от ярости, а потом не выдерживал и выскакивал из хижины. Однако деваться было некуда. Лютый мороз сразу загонял его обратно, в ненавистную тесноту. Две койки, печка, стол и двое взрослых мужчин на территории площадью десять на двенадцать футов. В подобных условиях само присутствие другого человека превращалось в личное оскорбление. Обитатели хижины постоянно впадали в угрюмое молчание, с каждым днем становившееся все мрачнее, глубже и продолжительнее. Порой для начала ссоры хватало лишь косого взгляда или недовольного выражения лица, хотя во время этих враждебных периодов каждый старался не замечать другого.
В сознании обоих зрел молчаливый и оттого еще более острый вопрос: как Господь позволил появиться на свет подобному чудовищу?
В томительном безделье часы тянулись нестерпимо медленно. Естественно, что от этого лентяи стали еще ленивее, впали в физическую летаргию, вырваться из которой уже не представлялось возможным, и начали бояться любой, даже самой простой и легкой, работы. Однажды утром, когда настала очередь готовить обычный завтрак, Картер Уэзерби вылез из-под одеяла, под храп товарища зажег сальную лампу и развел огонь в печи. Вода в котелке замерзла, умыться было нечем, однако он не огорчился. Ожидая, пока вода растает, нарезал бекон и принялся за ненавистный ритуал выпекания хлеба. Все это время Перси Катферт злорадно наблюдал за соседом из-под полуопущенных век.
Возникла ссора, во время которой ни один не поскупился на яростные проклятия. В результате было решено, что отныне и впредь каждый готовит еду только для себя. Неделю спустя Катферт обошелся без водных процедур, однако с удовольствием позавтракал. Уэзерби молча, саркастически усмехнулся. После этого глупая привычка умываться навсегда покинула насквозь промерзшую хижину.
По мере того как запасы сахара и других скромных лакомств скудели, каждый начал бояться, что не получает справедливой доли. Чтобы не позволить сопернику обобрать себя, оба начали объедаться. Соревнование в обжорстве навредило не только припасам, но и людям.
В отсутствие свежих овощей и движения кровь оскудела, а тела покрылись мерзкой лиловой сыпью. Однако зимовщики пренебрегли этим красноречивым предупреждением. Затем начали распухать суставы и мышцы, кожа почернела, а язык, десны и губы приобрели цвет жирных сливок. Вместо того чтобы сплотиться в несчастье, оба тайно злорадствовали над симптомами врага, а цинга тем временем коварно наступала.
Вскоре Катферт и Уэзерби утратили всякий интерес к собственной внешности, а заодно перестали соблюдать простейшие правила приличия. Хижина превратилась в хлев; постели больше никто не заправлял, да и свежий еловый лапник не подстилал. Но постоянно лежать под одеялами, как того хотелось, зимовщики не могли: мороз становился суровее, а железная печка жадно поглощала дрова. Волосы и бороды у обоих неопрятно отросли, а одежда отпугнула бы даже самого непритязательного старьевщика. Однако подобные мелочи уже никого не волновали. Оба были тяжело больны и не заботились о внешнем виде. К тому же каждое движение доставляло острые мучения.
Вскоре добавилось новое несчастье – страх перед Севером, порожденный великим холодом и великим безмолвием. Страх возник в декабрьской тьме, когда солнце навеки спряталось за горизонтом. Каждый страдал по-своему. Уэзерби пал жертвой грубых суеверий и начал общаться с духами, спавшими в забытых могилах. Занятие быстро лишило воли; отныне призраки являлись к нему во сне и залезали под одеяло, чтобы рассказать о былых трудах и горестях. Напрасно Картер Уэзерби сторонился, пытаясь увернуться от ледяных прикосновений. Жуткие существа прижимались все теснее, гладили ноги своими холодными ногами и шептали на ухо страшные пророчества. В такие моменты хижина оглашалась диким криком. Перси Катферт не понимал, что происходит, поскольку общение давно прекратилось. Всякий раз он хватался за револьвер и подолгу сидел в темноте, нервно дрожа и направив дуло на ничего не подозревавшего соседа. Он считал, что Уэзерби сходит с ума, и опасался за свою жизнь.
Его собственная болезнь протекала в менее определенной, агрессивной форме. Таинственный строитель, сложивший хижину бревно за бревном, прикрепил на конек крыши флюгер в виде полумесяца. Катферт заметил, что концы серпа всегда указывают на юг, и однажды в порыве раздражения намеренно повернул полумесяц на восток и начал терпеливо наблюдать, однако ни единое дуновение не нарушило неподвижности железной фигуры. Тогда он повернул флюгер на север и поклялся не прикасаться, пока не поднимется ветер, но воздух пребывал в неземном покое. Часто Катферт вставал среди ночи, чтобы проверить, не повернулся ли серп. Даже малейшего отклонения в десять градусов оказалось бы достаточно. Нет, флюгер замер в неподвижности столь же неотступной, как сама судьба.
Воображение вышло из повиновения, и кусок железа на крыше превратился в фетиш. Порой Катферт следовал по указанному флюгером мрачному пути, и душа наполнялась страхом. До тех пор размышлял он о невидимом и неведомом, пока гнет вечности не становился невыносимо тяжелым, угрожая раздавить. На Севере все обладало сокрушительной силой: отсутствие жизни и движения; темнота; бесконечный покой застывшей земли; отвратительная тишина, где даже стук сердца казался кощунством; торжественный мрачный лес, хранивший ужасную, не выразимую ни словами, ни мыслями тайну.
Недавно покинутый мир с шумными городами и деловой суетой погрузился в небытие. Правда, воспоминания посещали Катферта – об аукционных залах, галереях, оживленных улицах, вечерних нарядах и светских раутах, о приятных мужчинах и милых дамах, которых довелось встретить. Но все это происходило в иной, далекой жизни, много веков назад, на другой планете. А вот этот фантом превратился в реальность. Стоя под флюгером и устремив взгляд в черное полярное небо, Перси Катферт никак не мог осознать, что южные края действительно существуют и в эту минуту там бурно кипит жизнь. Нет, никакого юга не было и в помине. Не рождались на свет мужчины и женщины, никто не женился и не выходил замуж. За холодным горизонтом простирались бескрайние пустые пространства, а за ними открывались новые, еще более обширные безлюдные дали. Нигде не светило солнце, не благоухали цветы. Эти образы не более чем вечная мечта о рае. Зеленые просторы Запада, пряные ароматы Востока, улыбающиеся сады Аркадии и благословенные Острова Блаженных… Ха-ха-ха! Собственный смех грубо рассек молчаливый мрак и напугал своим странным звуком. Солнца не существовало.
Существовала лишь Вселенная – мертвая, холодная и темная, – и в кромешной пустоте он, ее единственный обитатель. Уэзерби? В такие моменты Уэзерби в счет не шел. Он представлялся Калибаном – страшным призраком, навечно прикованным к Катферту в наказание за давний, забытый грех.
Он жил со смертью среди мертвых, обессиленный сознанием собственной ничтожности, раздавленный неподвижной тяжестью дремлющих веков. Величие окружающего мира потрясало и приводило в смятение. Все сущее, кроме него самого, достигало абсолюта: полное отсутствие ветра и движения, бескрайние просторы укрытой снегом дикой земли, высота небес и глубина вечного безмолвия. Флюгер… если бы только серп сдвинулся с места… если бы вдруг грянул гром или вспыхнул в пожаре лес…
Если бы небо свернулось в свиток, судьба нанесла внезапный удар… все, что угодно! Но нет, ничто вокруг не шелохнулось; безмолвие властвовало над миром, и страх перед Севером крепче сжимал сердце ледяными когтями.
Однажды, подобно Робинзону Крузо, на берегу реки Катферт увидел следы – оставшийся на тонком насте легкий отпечаток заячьих лап. Открытие потрясло его. Оказывается, на Севере есть жизнь! Не отрывая взгляда, торжествуя, он пошел по следу. Охваченный экстазом предчувствия, забыв о распухших суставах, Катферт лез по глубокому снегу. Лес обступил со всех сторон, мимолетные сумерки погасли, однако он продолжал погоню до тех пор, пока в полном изнеможении, в отчаянии не рухнул в снег.
Наконец, проклиная собственную глупость, Перси Катферт понял, что след существует только в воспаленном воображении. Лишь поздней ночью он ползком вернулся в хижину с отмороженными щеками и странно онемевшими ногами. Уэзерби помощи не предложил, зато злобно усмехнулся. Катферт колол пальцы ног иголками, грел возле печки, но напрасно. Через неделю началась гангрена.
Клерк тем временем переживал собственные жестокие испытания. Мертвецы все чаще покидали свои могилы, ни днем, ни ночью не оставляя в покое. Он постоянно ждал их, а мимо двух каменных пирамид проходил не иначе как с содроганием. Однажды призраки явились во сне и увели с собой. В ужасе Уэзерби проснулся между могилами и поспешил вернуться в хижину, но, судя по всему, на снегу он лежал долго: щеки и ноги тоже оказались отмороженными.
Порой постоянное присутствие мертвецов доводило Картера Уэзерби до отчаяния, и он начинал дико метаться по хижине, размахивая топором и круша все вокруг.
Во время сражений с призраками Катферт прятался под одеяло и напряженно следил за одержимым, сжимая в руке заряженный револьвер, чтобы выстрелить, если тот подбежит слишком близко.
Однажды, очнувшись от припадка, клерк заметил направленное на него дуло.
Отныне и его охватил страх за собственную жизнь. С этого дня взаимная слежка не прекращалась ни на минуту, а если одному случалось пройти за спиной другого, тот нервно оборачивался. Ужас перед соседом не отступал и во сне, превратившись в навязчивую идею. Тусклая сальная лампа теперь светила даже по ночам; ложась спать, оба проверяли, достаточно ли в ней жира. Малейшее движение с вражеской стороны хижины заставляло проснуться; много бессонных часов провели оба, дрожа под одеялами и держа пальцы на спусковых крючках.