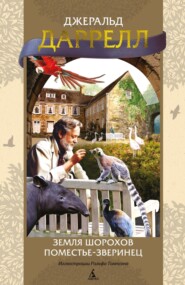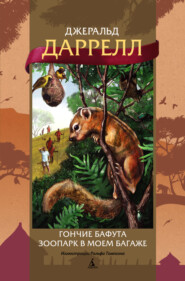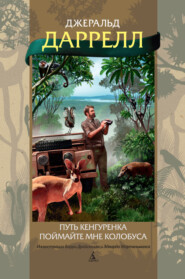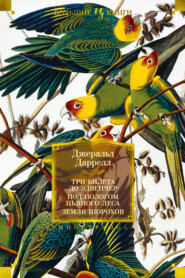По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя семья и другие звери
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, как вам это нравится! – вскипел Ларри. – Да в этой семье я самый разумный.
– Пусть так, дорогой, но пикировка не помогает решению проблемы. Нам нужен человек, который сможет нашего Джерри чему-то научить и будет поощрять его интересы.
– У него, похоже, есть только один интерес, – не без горечи заметил Ларри. – Непреодолимая потребность заполнять любую пустоту какой-нибудь живностью. Я не считаю, что это надо поощрять. Жизнь и без того полна опасностей. Сегодня утром полез в сигаретницу, а оттуда вылетел здоровенный шмель.
– А на меня выскочил кузнечик, – мрачно изрек Лесли.
– Я тоже считаю, что это безобразие нужно прекратить, – заявила Марго. – Не где-нибудь, а на туалетном столике нахожу кувшин, а в нем копошатся какие-то мерзкие твари.
– Он не имеет в виду ничего плохого. – Мать постаралась перевести разговор на мирные рельсы. – Дружочек просто интересуется такими вещами.
– Я бы не возражал против атаки шмелей, если бы это реально к чему-то вело, – сказал Ларри. – Но это всего лишь временное увлечение, и к четырнадцати годам он его перерастет.
– У него это увлечение с двух лет, и пока не видно никаких признаков, что он может его перерасти, – возразила мать.
– Ну если ты настаиваешь на том, чтобы напичкать его всякой бесполезной информацией, то, я полагаю, можно поручить это Джорджу.
– Отличная мысль! – обрадовалась мать. – Почему бы тебе с ним не встретиться? Чем скорее он приступит к делу, тем будет лучше.
Сидя в сгущающихся сумерках у открытого окна, с лохматым Роджером под мышкой, я со смешанным чувством любопытства и негодования слушал, как семья решает мою судьбу. И когда она решилась окончательно, в голове моей мелькнули смутные мысли: а собственно, кто такой этот Джордж и зачем мне вообще нужны эти уроки? Но в сумерках разливались такие цветочные запахи, а оливковые рощи так к себе манили своей ночной загадочностью, что я тут же забыл про надвигающуюся угрозу начального образования и вместе с Роджером отправился охотиться на светлячков в кустах ежевики.
Выяснилось, что Джордж – старый друг Ларри, приехавший на Корфу, чтобы здесь сочинять. В этом не было ничего необычного, так как в то время все друзья моего брата были писателями, поэтами или художниками. К тому же именно благодаря Джорджу мы оказались на Корфу – в своих письмах он так расхваливал эти места, что Ларри твердо решил: только там наше место. И вот теперь Джорджа ждала расплата за опрометчивость. Он пришел к нам познакомиться с матерью, и меня ему представили. Мы разглядывали друг друга с подозрением. Джордж, высоченный и очень худой, двигался с разболтанностью марионетки. Его впалое черепообразное лицо частично скрывала заостренная коричневатая бородка и большие очки в черепаховой оправе. Он обладал глубоким меланхоличным голосом и суховатым, саркастическим чувством юмора. Пошутив, он прятал в бороде этакую волчью ухмылочку, на которую никак не влияла реакция окружающих.
Джордж с серьезным видом взялся за дело. Отсутствие на острове необходимых учебников его нисколько не смутило, он просто обшарил собственную библиотеку и в назначенный день приволок более чем неожиданную подборку. С твердостью и терпением он начал меня учить азам географии по картам, приложенным к старому изданию пирсовской «Энциклопедии»; английскому – по книгам самых разных авторов, от Уайльда до Гиббона; французскому – по увесистому фолианту под названием «Le Petit Larousse»; а математике – просто по памяти. Но главным, с моей точки зрения, было то, что часть времени мы посвящали естествознанию, и Джордж с особым педантизмом учил меня вести наблюдения и записывать их потом в дневник. Впервые мой интерес к природе, в котором было много энтузиазма, но мало системности, как-то сфокусировался, и я понял, что, записывая свои наблюдения, гораздо лучше все заучиваю и запоминаю. Из всех наших уроков не опаздывал я лишь на уроки по естествознанию.
Каждое утро, ровно в девять, среди олив появлялся Джордж в шортах, сандалиях и огромной соломенной шляпе с потрепанными полями, под мышкой стопка книг, а в руке трость, которую он энергично выбрасывал вперед.
– Утро доброе! Ну что, ученик ждет наставника, трепеща от возбуждения? – приветствовал он меня с мрачноватой ухмылкой.
В небольшой столовой в зеленоватом свете, пробивающемся сквозь закрытые ставни, Джордж методично раскладывал на столе принесенные книги. Одуревшие от тепла мухи вяло ползали по стенам или летали, как пьяные, по комнате с сонным жужжанием. За окном цикады с воодушевлением славили новый день пронзительным стрекотом.
– Так-так, так-так, – бормотал Джордж, скользя длинным указательным пальцем вниз по странице с тщательно продуманным расписанием занятий. – Стало быть, математика. Если я ничего не забыл, мы поставили перед собой задачу, достойную Геракла: выяснить, сколько дней понадобится шести мужчинам, чтобы построить стену, если у троих на это ушла неделя. Помнится, на решение этой задачки мы потратили почти столько же времени, сколько мужчины на строительство стены. Ну что ж, давай препояшемся и еще раз примем бой. Может, тебя смущает сама формулировка вопроса? Тогда попробуем как-то ее оживить.
Он в задумчивости склонялся над тетрадью для упражнений и пощипывал бородку. А потом своим крупным четким почерком формулировал задачку на новый лад.
– Сколько дней понадобится четырем гусеницам на то, чтобы съесть восемь листьев, если у двух на это ушла неделя? Ну, что скажешь?
Пока я потел над нерешаемой проблемой гусеничных аппетитов, Джордж находил себе иное занятие. Он был отменным фехтовальщиком, а в те дни учил местные крестьянские танцы, к которым питал слабость. Так что, пока я бился над решением арифметической задачки, он размахивал в полутемной комнате рапирой или выполнял сложные танцевальные па; все это меня, мягко говоря, отвлекало, и отсутствие у меня способностей к математике я готов объяснять именно его выкрутасами. Даже сегодня положите передо мной простейшую задачку, и в памяти сразу возникнет долговязый Джордж, делающий выпады и пируэты в полутемной столовой. Свои па он сопровождал фальшивым пением, чем-то напоминавшим растревоженный улей.
– Тум-ти-тум-ти-тум… тидл-тидл-тумти-ди… шажок левой, три шажка правой… тум-ти-тум-ти-тум-ти… дум… назад, разворот, присел, привстал… тидл-тидл-тумти-ди… – так он зудел, делая свои шаги и пируэты, как разнесчастный журавль.
Вдруг зуд обрывался, в глазах появлялся стальной блеск, Джордж принимал защитную позицию и делал выпад воображаемой рапирой в сторону воображаемого противника. А затем, с прищуром, посверкивая стеклами очков, гонял противника по комнате, искусно лавируя среди мебели. Загнав его в угол, Джордж начинал кружить-петлять вокруг него, что твоя оса, жаля, наскакивая и отскакивая. Я почти видел блеск вороненой стали. И наконец, финал: резкий разворот клинка вверх и в сторону, отбрасывающий рапиру противника, быстрый отскок – и тут же разящий выпад в самое сердце. Все это время я как завороженный наблюдал за ним, напрочь забыв про тетрадь. Математика была не самым успешным из наших предметов.
С географией дела обстояли лучше, так как Джордж умел придать урокам зоологическую окраску. Мы рисовали огромные карты в морщинах горных цепей и вписывали разные достопримечательности вместе с образцами необычной фауны. Так, для меня Цейлон – это были тапиры и чай, Индия – тигры и рис, Австралия – кенгуру и овцы. А на голубых изгибах морских течений появлялись нарисованные киты, альбатросы, пингвины и моржи вместе со штормами, пассатами, обозначениями хорошей и плохой погоды. Наши карты были произведениями искусства. Главные вулканы изрыгали такой огонь и искры, что становилось страшно за бумажные континенты; горные вершины так пронзительно голубели и белели ото льда и снега, что от одного взгляда на них охватывал озноб. Наши бурые, высушенные солнцем пустыни украшались холмиками в виде верблюжьих горбов и пирамид, а наши тропические леса были до того буйные и непролазные, что даже крадущиеся ягуары, верткие змеи и угрюмые гориллы с трудом сквозь них продирались, а там, где леса заканчивались, изнуренные туземцы из последних сил рубили нарисованные деревья, делая просеки, кажется, с единственной целью – написать кривыми заглавными буквами «кофе» или «злаки». Наши реки были широкими и синими, как незабудки, в пятнышках каноэ и крокодилов. В наших океанах, там, где они не пенились от яростного шторма или их не вздымала устрашающая приливная волна, нависшая над каким-нибудь затерянным, поросшим лохматыми пальмами островом, кипела жизнь: добродушные киты позволяли себя преследовать галеонам, явно непригодным к плаванию, зато до зубов вооруженным гарпунами; вкрадчивые и такие невинные с виду осьминоги ласково охватывали крохотные лодочки своими длинными щупальцами; за китайской джонкой с желтокожей командой гналась целая стая зубастых акул, а эскимосы в меховой одежде преследовали жирных моржей среди льдов, густо населенных полярными медведями и пингвинами. Это были живые карты для изучения, высказывания сомнений, внесения поправок; короче, они содержали некий смысл.
Наши попытки заняться историей поначалу были не слишком успешными, пока до Джорджа не дошло, что достаточно в эту голую почву посадить отросточек зоологии и побрызгать совершенно посторонними деталями, чтобы пробудить у меня интерес. Так я ознакомился с кое-какими историческими фактами, доселе нигде не изложенными, насколько мне известно. С затаенным дыханием, урок за уроком, я следил за переходом Ганнибала через Альпы. Причина, по которой он отважился на такой подвиг, и его планы на той стороне интересовали меня в последнюю очередь. Мой интерес к очень плохо, в моем понимании, организованной экспедиции был связан с тем, что я знал кличку каждого слона. Я также знал, что Ганнибал назначил специального человека, чтобы не только кормить слонов и за ними ухаживать, но еще и давать им в стужу бутылочки с горячей водой. Сей прелюбопытный факт, кажется, ускользнул от внимания серьезных историков. Почти все исторические книги также умалчивают о первых словах Колумба, когда он ступил на американскую землю: «О боже, смотрите… ягуар!» После такого вступления как можно было не увлечься дальнейшей историей континента? Словом, Джордж, при отсутствии подходящих учебников и при инертности ученика, старался всячески оживить предмет, дабы я не скучал на его уроках.
Роджер, само собой, считал каждое утро потерянным. Но он меня не бросал, а просто спал под столом, пока я корпел над заданиями. Если мне надо было сходить за какой-то книгой, он просыпался, отряхивался, громко зевал и радостно крутил хвостом. Однако, увидев, что я возвращаюсь за стол, он опускал уши и тяжелой походкой уходил в свое укромное место, где снова плюхался со вздохом разочарования. Джордж не возражал против его присутствия, так как пес вел себя хорошо и меня не отвлекал. Но иногда, крепко уснув и вдруг услышав лай крестьянской собаки, Роджер просыпался с хриплым грозным рычанием и не сразу понимал, где он находится. Поймав же наши неодобрительные физиономии, он смущался, вилял хвостиком и робко обводил взглядом комнату.
Какое-то время Квазимодо тоже присутствовал на наших уроках и вел себя вполне прилично, если я ему позволял сидеть на коленях. Так он мог проспать все утро, тихо воркуя. Но однажды я его прогнал, после того как он перевернул бутылочку с зелеными чернилами аккурат посредине великолепной географической карты, которую мы только что закончили рисовать. Понимая, что это вовсе не обдуманный вандализм, я тем не менее не мог побороть раздражения. Целую неделю Квазимодо пытался снова втереться ко мне в доверие, сидя под дверью и призывно курлыча сквозь щелку, но когда я уже был готов сдаться, то ловил взглядом его хвост, видел ужасающее зеленое пятно, и сердце мое твердело.
Ахиллес посетил один из наших уроков, но ему в доме не понравилось. Он все утро блуждал по комнате и скребся то о плинтус, то о дверь. А иногда он застревал и начинал отчаянно елозить, пока его не спасали из-под какого-нибудь пуфа. Маленькая комната была тесно заставлена мебелью, и, чтобы добраться до одного предмета обстановки, надо было практически все передвинуть. После третьей генеральной перестановки Джордж сказал, что он не привык к таким нагрузкам и что в саду Ахиллес будет чувствовать себе гораздо счастливее.
В результате компанию мне составлял один Роджер. Но как ни приятно класть ноги на теплую мохнатую спину, пока ты бьешься над очередной задачкой, все равно трудно сосредоточиться, когда солнце пробивается сквозь ставни, рисуя на столе тигровые полосы и напоминая тебе о том, чем ты мог бы сейчас заняться.
За окном же в оливковых рощах пели цикады, в виноградниках по каменным поросшим мхом ступенькам сновали яркие, будто раскрашенные, ящерицы, в зарослях мирта скрывались насекомые, а над каменистым мысом стаи разноцветных щеглов перелетали с возбужденным посвистом с чертополоха на чертополох.
Когда это дошло до Джорджа, он мудрым решением перенес наши занятия на природу. В какие-то утра он приходил с большим махровым полотенцем, и мы отправлялись через оливковые рощи и дальше по дороге, словно выложенной пропыленным белым бархатным ковром. Затем сворачивали на козью тропу, что тянулась поверх миниатюрных утесов и спускалась к уединенной бухточке, окаймленной полумесяцем из белого песка. Там низкорослые оливы отбрасывали желанную тень. С вершины утеса вода в бухте выглядела совершенно неподвижной и прозрачной, так что легко было усомниться в ее существовании. Над песчаным ребристым дном, казалось, прямо по воздуху плавают рыбки, а на шестифутовой глубине отчетливо просматривались подводные скалы, где актинии пошевеливали хиленькими цветастыми пальчиками и раки-отшельники таскали на себе домики-панцири.
Раздевшись под оливами, мы входили в теплую прозрачную воду и плавали, разглядывая под собой скалы и водоросли, иногда ныряли за добычей: особенно яркой раковиной или гигантским раком-отшельником с актинией на панцире, напоминавшей розовый цветок на шляпе. Здесь и там на песчаном дне росли черные ленточные водоросли, а среди них жили морские огурцы. Шагая по воде и глядя под ноги на спутанные блестящие и узкие водоросли зеленоватого и черного цвета, над которыми мы нависали, как ястребы над незнакомым пейзажем, можно было разглядеть этих, пожалуй, самых отталкивающих существ морской фауны. Около шести дюймов в длину, они выглядели в точности как длинноватые сосиски из толстой коричневой морщинистой кожи – почти неразличимые примитивные существа, лежащие на месте, колыхаемые волной, одним концом всасывающие морскую воду, а другим ее выпускающие. Растительные и животные микроорганизмы фильтруются в этой «сосиске» и обрабатываются в желудке простым механизмом переваривания. Жизнь морских огурцов интересной никак не назовешь. Они тупо переваливаются на песке, втягивая в себя соленую воду с монотонной регулярностью. Трудно поверить в то, что эти жирные существа способны как-то себя защитить и что такая необходимость вообще может возникнуть, однако на поверку они используют любопытный способ выражения своего неудовольствия. Стоит только вытащить морского огурца, как он выстреливает в тебя морской водой хоть спереди, хоть сзади, и без видимого мышечного усилия. Мы с Джорджем даже придумали игру с этим импровизированным водяным пистолетом. Стоя в воде, мы по очереди выстреливали из него и смотрели, куда падает струя. Тот, у кого в этом месте обнаруживалась более разнообразная морская жизнь, зарабатывал очко. Порой, как в любой игре, эмоции захлестывали, сыпались негодующие обвинения в жульничестве, которые яростно отрицались. Вот тут-то и приходился кстати водяной пистолет. Но потом мы всегда снова укладывали их среди водорослей. И в следующий раз они лежали на том же месте и, скорее всего, в той же позе, только время от времени вяло переворачивались с боку на бок.
Разобравшись с огурцами, мы охотились за морскими раковинами для моей коллекции или вели долгие дискуссии вокруг других представителей местной фауны. В какой-то момент Джордж осознавал, что все это, конечно, замечательно, но не является образованием в строгом смысле слова, и тогда мы залегали на мелководье и продолжали наши занятия, а вокруг собирались косяки мелких рыбешек, которые нежно покусывали нас за ноги.
– Французский и британский флот медленно сближались перед решающим морским сражением. Когда наблюдатель заметил корабли противника, Нельсон стоял на капитанском мостике и в телескоп следил за полетом птиц… О приближении французской эскадры его уже по-дружески предупредила чайка… скорее всего, большая черноспинная. Корабли маневрировали как умели… с помощью парусов… тогда ведь еще не было моторов, даже подвесных, и все делалось не так быстро, как сегодня. Поначалу английских моряков испугала французская армада, но, увидев, с какой невозмутимостью Нельсон, сидя на мостике, клеит ярлычки на птичьи яйца из своей коллекции, они поняли, что можно не волноваться…
Море, похожее на теплое шелковое покрывало, тихо раскачивало мое тело. Никаких волн, только это убаюкивающее подводное течение, своего рода морской пульс. Цветные рыбки, завидев мои ноги, вздрагивали, перестраивались, делали стойку и разевали беззубые рты. В изнеможенной от жары оливковой роще цикада о чем-то стрекотала себе под нос.
– …и тогда Нельсона спешно унесли с капитанского мостика, чтобы никто из команды не догадался о том, что он ранен… Рана была смертельная. Сражение шло полным ходом, когда он, лежа в трюме, прошептал последние слова: «Поцелуй меня, Харди»… и испустил дух. Что? Ну конечно. Он заранее сказал, что если с ним что-то случится, то коллекция птичьих яиц достанется Харди… Хотя Англия потеряла своего лучшего моряка, сражение было выиграно, и это имело важные последствия для всей Европы…
Бухту пересекала белеющая под солнцем лодка, ею управлял стоящий на корме смуглый рыбак в драных штанах, а весло, которым он загребал, мелькало в воде, как рыбий хвост. Он лениво помахал нам рукой. Разделенные голубой гладью, мы слышали, как весло с жалобным скрипом проворачивалось в уключине, а потом с тихим хлюпаньем погружалось в воду.
5
Паучий рай
Однажды жарким томным днем, когда, казалось, все спят, кроме неугомонных цикад, мы с Роджером решили проверить, как далеко можно забраться по холмам до наступления сумерек. Миновав оливковые рощи, все в белых полосах и пятнах от слепящего солнца, с перегретым стоячим воздухом, мы забрались выше деревьев, на голую скалистую вершину, и присели отдохнуть. Внизу раскинулся спящий остров с переливающейся морской гладью в дымке испарений: серо-зеленые оливы, черные кипарисы, прибрежные скалы пестрой расцветки и опаловое море, местами бирюзовое, местами нефритовое, в парочке складок там, где оно огибало мыс, поросший спутанными оливами. Прямо под нами раскинулась мелкая, едва голубеющая, почти белая бухточка с ослепительно-белым песчаным пляжем в виде полумесяца. После восхождения я был мокрый от пота, а Роджер сидел с высунутым языком и пеной на усах. Мы решили, что не полезем ни на какие горы, а, наоборот, лучше искупнемся. Так что мы спустились по склону и оказались в безлюдной, тихой бухточке, разомлевшей под палящими лучами солнца. Такие же полусонные, мы уселись в теплой воде, и я стал ковыряться в песочке. Наткнувшись на какой-нибудь голыш или осколок бутылочного стекла, вылизанный и отполированный морем до такой степени, что он превратился в настоящий изумруд, зеленый и прозрачный, я протягивал свою находку внимательно наблюдавшему за мной Роджеру. Не совсем понимая, чего я от него хочу, но не желая меня обижать, он осторожно зажимал ее зубами, чтобы через какое-то время, убедившись, что я этого не вижу, выбросить ее обратно в воду со вздохом облегчения.
Потом я обсыхал, лежа на камнях, а Роджер трусил по мелководью и, фыркая, пытался цапнуть за синий плавник хоть одну морскую собачку с надутой, ничего не выражающей мордочкой, но они сновали между камней со скоростью ласточек. Тяжело дыша, не спуская глаз с прозрачной воды, Роджер с предельным вниманием следил за их перемещениями. Окончательно просохнув, я надел шорты и рубашку и позвал своего дружка. Он неохотно направился ко мне, то и дело оглядываясь на морских собачек, продолжавших мелькать над песчаным дном, подсвеченным яркими лучами. Приблизившись почти вплотную, он так основательно отряхнулся, что обдал меня настоящим водопадом.
После купания тело мое отяжелело и расслабилось, а кожа как будто покрылась шелковистой корочкой соли. Медленно, в каких-то своих грезах, мы двинулись в сторону главной дороги. Я вдруг почувствовал голод и стал думать, в каком бы из соседних домов мне перекусить. Я постоял в раздумье, поднимая мелкую белую пыль носком ботинка. Если я загляну в ближайший дом, к Леоноре, то меня угостят хлебом с инжиром, но при этом она мне прочитает бюллетень о состоянии здоровья дочери. Ее дочь была хрипатой мегерой с легким косоглазием, она мне решительно не нравилась, и ее здоровье меня совсем не волновало. Я решил не идти к Леоноре. Жаль, конечно, ведь у нее рос лучший в округе инжир, но плата за лакомство была слишком высокой. Если я наведаюсь к рыбаку Таки, то у него сейчас сиеста, и я услышу из дома с наглухо закрытыми ставнями раздраженный крик: «Проваливай отсюда, кукурузина!» Христаки и его семья, скорее всего, окажутся на месте, но за угощение мне придется отвечать на кучу скучных вопросов: «Англия больше, чем Корфу? Какое там население? Все ли жители лорды? Как выглядит поезд? Растут ли в Англии деревья?» – и так до бесконечности. Если бы сейчас было утро, я бы срезал путь через поля и виноградники и по дороге утолил голод за счет своих щедрых друзей – оливки, хлеб, виноград, инжир, – а после небольшого крюка, пожалуй, заглянул бы во владения Филомены и под конец съел бы хрустящий розовый ломоть арбуза, холодного как лед. Но наступило время сиесты, когда крестьяне спят в домах, заперев двери и закрыв ставни. Это была настоящая проблема, и, пока я над ней ломал голову, голод все сильнее давал о себе знать, я шагал все быстрей и быстрей, пока Роджер протестующе не фыркнул, посмотрев на меня с явной обидой.
Вдруг меня осенило. Прямо за холмом, в зазывно белеющем домике, жил старый пастух Яни с женой. Я знал, что сиесту он проводит в тени виноградника, и, если произвести должный шум, пастух наверняка проснется. А уж проснувшись, он непременно проявит гостеприимство. Не было такого крестьянского дома, где бы тебя отпустили не солоно хлебавши. Ободренный этой мыслью, я свернул на петляющую каменистую тропу, проделанную копытами коз Яни, через холм и дальше вниз, в долину, где красная крыша пастушьего дома смотрелась ярким пятном среди внушительных оливковых стволов. Подойдя достаточно близко, я швырнул камень, чтобы Роджер за ним сбегал. Это была одна из его любимых игр, но, раз начавшись, она требовала продолжения, в противном случае он начинал что есть мочи лаять, пока ты не повторял маневр, только чтобы пес отвязался. Роджер принес камень, бросил его к моим ногам и в ожидании отошел – уши торчком, глаза блестят, мышцы напряжены, к действию готов. Однако я проигнорировал и его, и камень. Удивившись, он проверил, все ли с этим камнем в порядке, и снова на меня посмотрел. Я засвистел какую-то мелодию, поглядывая на небо. Роджер пробно тявкнул, а убедившись в том, что я не обращаю на него никакого внимания, разразился громким басовитым лаем, который эхом разнесся среди олив. Я дал ему полаять минут пять. Теперь Яни наверняка проснулся. Наконец я швырнул камень, за которым Роджер бросился на радостях, а сам направился в обход дома.
Старый пастух, как я и думал, отдыхал в драной тени виноградной лозы, обвивавшей высокие железные шпалеры. Но, к моему огромному разочарованию, он не проснулся. А сидел он на простом стуле соснового дерева, наклоненном к стене под опасным углом. Руки висели как плети, ноги вытянуты вперед, а его знатные усы, порыжевшие и поседевшие от никотина и старости, поднимались и подрагивали от храпа, словно необычные водоросли от легкого подводного течения. Толстые пальцы на руках-обрубках дергались во сне, и я разглядел желтоватые ребристые ногти, похожие на оплывы сальной свечи. Его смуглое лицо в морщинах и бороздах, как кора сосны, ничего не выражало, глаза плотно закрыты. Я сверлил его взглядом в надежде разбудить, да все без толку. Приличия не позволяли его растолкать, и я мысленно решал дилемму, стоит ли ждать, когда он сам проснется, или уж смириться с занудством Леоноры, когда из-за дома с высунутым языком и торчащими ушами выскочил потерявшийся Роджер. Увидев меня, он радостно вильнул хвостом и огляделся с видом желанного посетителя. Вдруг он застыл, усы встопорщились, и он начал медленно подходить – ноги напряглись, весь дрожит. Это он увидел то, чего не заметил я: под накренившимся стулом, свернувшись, лежала большая длинноногая серая кошка, которая внаглую разглядывала нас своими зелеными глазищами. Не успел я схватить Роджера, как он бросился на добычу. Одним движением, свидетельствовавшим о долгой практике, кошка пулей долетела до шишковатой лозы, с пьяной расслабленностью обвившейся вокруг шпалеры, и взлетела наверх с помощью цепких лап. Усевшись среди гроздьев светлого винограда, она посмотрела вниз на Роджера и как будто сплюнула. Роджер, совсем озверев, запрокинул голову и разразился угрожающим, можно сказать, изничтожающим лаем. Яни открыл глаза, стул под ним закачался, и он отчаянно замахал руками, чтобы сохранить равновесие. Стул на миг завис в некоторой нерешительности, а затем со стуком опустился на все четыре ножки.
– Святой Спиридон, помоги! – взмолился Яни, и усы у него задрожали. – Не оставь меня, Господи!
Озираясь, чтобы понять причину бучи, он увидел меня, скромно сидящего на стене. Я вежливо и радушно приветствовал его, как будто ничего не случилось, и поинтересовался, хорошо ли он поспал. Яни с улыбочкой поднялся на ноги и сладострастно почесал живот.
– Вот кто шумит так, что у меня чуть не лопнула голова. Ну, будьте здоровы. Садитесь, юный лорд. – Он протер свой стул и пододвинул мне. – Я рад вас видеть. Не хотите со мной поесть и выпить? Вон какой сегодня жаркий день. В такую жару того гляди бутылка расплавится.
Он потянулся и громко зевнул, показав беззубые десны, как у младенца. Потом развернулся к дому и прокричал:
– Афродита… Афродита… женщина, просыпайся… пришли иностранцы… здесь со мной юный лорд… Неси еду… Ты меня слышишь?
– Да слышу, слышу, – донесся приглушенный голос из-за закрытых ставень.
Яни крякнул, вытер усы и деликатно скрылся за ближайшим оливковым деревом, откуда снова появился, застегивая штаны и зевая. Он уселся на стену рядом со мной.
– Пусть так, дорогой, но пикировка не помогает решению проблемы. Нам нужен человек, который сможет нашего Джерри чему-то научить и будет поощрять его интересы.
– У него, похоже, есть только один интерес, – не без горечи заметил Ларри. – Непреодолимая потребность заполнять любую пустоту какой-нибудь живностью. Я не считаю, что это надо поощрять. Жизнь и без того полна опасностей. Сегодня утром полез в сигаретницу, а оттуда вылетел здоровенный шмель.
– А на меня выскочил кузнечик, – мрачно изрек Лесли.
– Я тоже считаю, что это безобразие нужно прекратить, – заявила Марго. – Не где-нибудь, а на туалетном столике нахожу кувшин, а в нем копошатся какие-то мерзкие твари.
– Он не имеет в виду ничего плохого. – Мать постаралась перевести разговор на мирные рельсы. – Дружочек просто интересуется такими вещами.
– Я бы не возражал против атаки шмелей, если бы это реально к чему-то вело, – сказал Ларри. – Но это всего лишь временное увлечение, и к четырнадцати годам он его перерастет.
– У него это увлечение с двух лет, и пока не видно никаких признаков, что он может его перерасти, – возразила мать.
– Ну если ты настаиваешь на том, чтобы напичкать его всякой бесполезной информацией, то, я полагаю, можно поручить это Джорджу.
– Отличная мысль! – обрадовалась мать. – Почему бы тебе с ним не встретиться? Чем скорее он приступит к делу, тем будет лучше.
Сидя в сгущающихся сумерках у открытого окна, с лохматым Роджером под мышкой, я со смешанным чувством любопытства и негодования слушал, как семья решает мою судьбу. И когда она решилась окончательно, в голове моей мелькнули смутные мысли: а собственно, кто такой этот Джордж и зачем мне вообще нужны эти уроки? Но в сумерках разливались такие цветочные запахи, а оливковые рощи так к себе манили своей ночной загадочностью, что я тут же забыл про надвигающуюся угрозу начального образования и вместе с Роджером отправился охотиться на светлячков в кустах ежевики.
Выяснилось, что Джордж – старый друг Ларри, приехавший на Корфу, чтобы здесь сочинять. В этом не было ничего необычного, так как в то время все друзья моего брата были писателями, поэтами или художниками. К тому же именно благодаря Джорджу мы оказались на Корфу – в своих письмах он так расхваливал эти места, что Ларри твердо решил: только там наше место. И вот теперь Джорджа ждала расплата за опрометчивость. Он пришел к нам познакомиться с матерью, и меня ему представили. Мы разглядывали друг друга с подозрением. Джордж, высоченный и очень худой, двигался с разболтанностью марионетки. Его впалое черепообразное лицо частично скрывала заостренная коричневатая бородка и большие очки в черепаховой оправе. Он обладал глубоким меланхоличным голосом и суховатым, саркастическим чувством юмора. Пошутив, он прятал в бороде этакую волчью ухмылочку, на которую никак не влияла реакция окружающих.
Джордж с серьезным видом взялся за дело. Отсутствие на острове необходимых учебников его нисколько не смутило, он просто обшарил собственную библиотеку и в назначенный день приволок более чем неожиданную подборку. С твердостью и терпением он начал меня учить азам географии по картам, приложенным к старому изданию пирсовской «Энциклопедии»; английскому – по книгам самых разных авторов, от Уайльда до Гиббона; французскому – по увесистому фолианту под названием «Le Petit Larousse»; а математике – просто по памяти. Но главным, с моей точки зрения, было то, что часть времени мы посвящали естествознанию, и Джордж с особым педантизмом учил меня вести наблюдения и записывать их потом в дневник. Впервые мой интерес к природе, в котором было много энтузиазма, но мало системности, как-то сфокусировался, и я понял, что, записывая свои наблюдения, гораздо лучше все заучиваю и запоминаю. Из всех наших уроков не опаздывал я лишь на уроки по естествознанию.
Каждое утро, ровно в девять, среди олив появлялся Джордж в шортах, сандалиях и огромной соломенной шляпе с потрепанными полями, под мышкой стопка книг, а в руке трость, которую он энергично выбрасывал вперед.
– Утро доброе! Ну что, ученик ждет наставника, трепеща от возбуждения? – приветствовал он меня с мрачноватой ухмылкой.
В небольшой столовой в зеленоватом свете, пробивающемся сквозь закрытые ставни, Джордж методично раскладывал на столе принесенные книги. Одуревшие от тепла мухи вяло ползали по стенам или летали, как пьяные, по комнате с сонным жужжанием. За окном цикады с воодушевлением славили новый день пронзительным стрекотом.
– Так-так, так-так, – бормотал Джордж, скользя длинным указательным пальцем вниз по странице с тщательно продуманным расписанием занятий. – Стало быть, математика. Если я ничего не забыл, мы поставили перед собой задачу, достойную Геракла: выяснить, сколько дней понадобится шести мужчинам, чтобы построить стену, если у троих на это ушла неделя. Помнится, на решение этой задачки мы потратили почти столько же времени, сколько мужчины на строительство стены. Ну что ж, давай препояшемся и еще раз примем бой. Может, тебя смущает сама формулировка вопроса? Тогда попробуем как-то ее оживить.
Он в задумчивости склонялся над тетрадью для упражнений и пощипывал бородку. А потом своим крупным четким почерком формулировал задачку на новый лад.
– Сколько дней понадобится четырем гусеницам на то, чтобы съесть восемь листьев, если у двух на это ушла неделя? Ну, что скажешь?
Пока я потел над нерешаемой проблемой гусеничных аппетитов, Джордж находил себе иное занятие. Он был отменным фехтовальщиком, а в те дни учил местные крестьянские танцы, к которым питал слабость. Так что, пока я бился над решением арифметической задачки, он размахивал в полутемной комнате рапирой или выполнял сложные танцевальные па; все это меня, мягко говоря, отвлекало, и отсутствие у меня способностей к математике я готов объяснять именно его выкрутасами. Даже сегодня положите передо мной простейшую задачку, и в памяти сразу возникнет долговязый Джордж, делающий выпады и пируэты в полутемной столовой. Свои па он сопровождал фальшивым пением, чем-то напоминавшим растревоженный улей.
– Тум-ти-тум-ти-тум… тидл-тидл-тумти-ди… шажок левой, три шажка правой… тум-ти-тум-ти-тум-ти… дум… назад, разворот, присел, привстал… тидл-тидл-тумти-ди… – так он зудел, делая свои шаги и пируэты, как разнесчастный журавль.
Вдруг зуд обрывался, в глазах появлялся стальной блеск, Джордж принимал защитную позицию и делал выпад воображаемой рапирой в сторону воображаемого противника. А затем, с прищуром, посверкивая стеклами очков, гонял противника по комнате, искусно лавируя среди мебели. Загнав его в угол, Джордж начинал кружить-петлять вокруг него, что твоя оса, жаля, наскакивая и отскакивая. Я почти видел блеск вороненой стали. И наконец, финал: резкий разворот клинка вверх и в сторону, отбрасывающий рапиру противника, быстрый отскок – и тут же разящий выпад в самое сердце. Все это время я как завороженный наблюдал за ним, напрочь забыв про тетрадь. Математика была не самым успешным из наших предметов.
С географией дела обстояли лучше, так как Джордж умел придать урокам зоологическую окраску. Мы рисовали огромные карты в морщинах горных цепей и вписывали разные достопримечательности вместе с образцами необычной фауны. Так, для меня Цейлон – это были тапиры и чай, Индия – тигры и рис, Австралия – кенгуру и овцы. А на голубых изгибах морских течений появлялись нарисованные киты, альбатросы, пингвины и моржи вместе со штормами, пассатами, обозначениями хорошей и плохой погоды. Наши карты были произведениями искусства. Главные вулканы изрыгали такой огонь и искры, что становилось страшно за бумажные континенты; горные вершины так пронзительно голубели и белели ото льда и снега, что от одного взгляда на них охватывал озноб. Наши бурые, высушенные солнцем пустыни украшались холмиками в виде верблюжьих горбов и пирамид, а наши тропические леса были до того буйные и непролазные, что даже крадущиеся ягуары, верткие змеи и угрюмые гориллы с трудом сквозь них продирались, а там, где леса заканчивались, изнуренные туземцы из последних сил рубили нарисованные деревья, делая просеки, кажется, с единственной целью – написать кривыми заглавными буквами «кофе» или «злаки». Наши реки были широкими и синими, как незабудки, в пятнышках каноэ и крокодилов. В наших океанах, там, где они не пенились от яростного шторма или их не вздымала устрашающая приливная волна, нависшая над каким-нибудь затерянным, поросшим лохматыми пальмами островом, кипела жизнь: добродушные киты позволяли себя преследовать галеонам, явно непригодным к плаванию, зато до зубов вооруженным гарпунами; вкрадчивые и такие невинные с виду осьминоги ласково охватывали крохотные лодочки своими длинными щупальцами; за китайской джонкой с желтокожей командой гналась целая стая зубастых акул, а эскимосы в меховой одежде преследовали жирных моржей среди льдов, густо населенных полярными медведями и пингвинами. Это были живые карты для изучения, высказывания сомнений, внесения поправок; короче, они содержали некий смысл.
Наши попытки заняться историей поначалу были не слишком успешными, пока до Джорджа не дошло, что достаточно в эту голую почву посадить отросточек зоологии и побрызгать совершенно посторонними деталями, чтобы пробудить у меня интерес. Так я ознакомился с кое-какими историческими фактами, доселе нигде не изложенными, насколько мне известно. С затаенным дыханием, урок за уроком, я следил за переходом Ганнибала через Альпы. Причина, по которой он отважился на такой подвиг, и его планы на той стороне интересовали меня в последнюю очередь. Мой интерес к очень плохо, в моем понимании, организованной экспедиции был связан с тем, что я знал кличку каждого слона. Я также знал, что Ганнибал назначил специального человека, чтобы не только кормить слонов и за ними ухаживать, но еще и давать им в стужу бутылочки с горячей водой. Сей прелюбопытный факт, кажется, ускользнул от внимания серьезных историков. Почти все исторические книги также умалчивают о первых словах Колумба, когда он ступил на американскую землю: «О боже, смотрите… ягуар!» После такого вступления как можно было не увлечься дальнейшей историей континента? Словом, Джордж, при отсутствии подходящих учебников и при инертности ученика, старался всячески оживить предмет, дабы я не скучал на его уроках.
Роджер, само собой, считал каждое утро потерянным. Но он меня не бросал, а просто спал под столом, пока я корпел над заданиями. Если мне надо было сходить за какой-то книгой, он просыпался, отряхивался, громко зевал и радостно крутил хвостом. Однако, увидев, что я возвращаюсь за стол, он опускал уши и тяжелой походкой уходил в свое укромное место, где снова плюхался со вздохом разочарования. Джордж не возражал против его присутствия, так как пес вел себя хорошо и меня не отвлекал. Но иногда, крепко уснув и вдруг услышав лай крестьянской собаки, Роджер просыпался с хриплым грозным рычанием и не сразу понимал, где он находится. Поймав же наши неодобрительные физиономии, он смущался, вилял хвостиком и робко обводил взглядом комнату.
Какое-то время Квазимодо тоже присутствовал на наших уроках и вел себя вполне прилично, если я ему позволял сидеть на коленях. Так он мог проспать все утро, тихо воркуя. Но однажды я его прогнал, после того как он перевернул бутылочку с зелеными чернилами аккурат посредине великолепной географической карты, которую мы только что закончили рисовать. Понимая, что это вовсе не обдуманный вандализм, я тем не менее не мог побороть раздражения. Целую неделю Квазимодо пытался снова втереться ко мне в доверие, сидя под дверью и призывно курлыча сквозь щелку, но когда я уже был готов сдаться, то ловил взглядом его хвост, видел ужасающее зеленое пятно, и сердце мое твердело.
Ахиллес посетил один из наших уроков, но ему в доме не понравилось. Он все утро блуждал по комнате и скребся то о плинтус, то о дверь. А иногда он застревал и начинал отчаянно елозить, пока его не спасали из-под какого-нибудь пуфа. Маленькая комната была тесно заставлена мебелью, и, чтобы добраться до одного предмета обстановки, надо было практически все передвинуть. После третьей генеральной перестановки Джордж сказал, что он не привык к таким нагрузкам и что в саду Ахиллес будет чувствовать себе гораздо счастливее.
В результате компанию мне составлял один Роджер. Но как ни приятно класть ноги на теплую мохнатую спину, пока ты бьешься над очередной задачкой, все равно трудно сосредоточиться, когда солнце пробивается сквозь ставни, рисуя на столе тигровые полосы и напоминая тебе о том, чем ты мог бы сейчас заняться.
За окном же в оливковых рощах пели цикады, в виноградниках по каменным поросшим мхом ступенькам сновали яркие, будто раскрашенные, ящерицы, в зарослях мирта скрывались насекомые, а над каменистым мысом стаи разноцветных щеглов перелетали с возбужденным посвистом с чертополоха на чертополох.
Когда это дошло до Джорджа, он мудрым решением перенес наши занятия на природу. В какие-то утра он приходил с большим махровым полотенцем, и мы отправлялись через оливковые рощи и дальше по дороге, словно выложенной пропыленным белым бархатным ковром. Затем сворачивали на козью тропу, что тянулась поверх миниатюрных утесов и спускалась к уединенной бухточке, окаймленной полумесяцем из белого песка. Там низкорослые оливы отбрасывали желанную тень. С вершины утеса вода в бухте выглядела совершенно неподвижной и прозрачной, так что легко было усомниться в ее существовании. Над песчаным ребристым дном, казалось, прямо по воздуху плавают рыбки, а на шестифутовой глубине отчетливо просматривались подводные скалы, где актинии пошевеливали хиленькими цветастыми пальчиками и раки-отшельники таскали на себе домики-панцири.
Раздевшись под оливами, мы входили в теплую прозрачную воду и плавали, разглядывая под собой скалы и водоросли, иногда ныряли за добычей: особенно яркой раковиной или гигантским раком-отшельником с актинией на панцире, напоминавшей розовый цветок на шляпе. Здесь и там на песчаном дне росли черные ленточные водоросли, а среди них жили морские огурцы. Шагая по воде и глядя под ноги на спутанные блестящие и узкие водоросли зеленоватого и черного цвета, над которыми мы нависали, как ястребы над незнакомым пейзажем, можно было разглядеть этих, пожалуй, самых отталкивающих существ морской фауны. Около шести дюймов в длину, они выглядели в точности как длинноватые сосиски из толстой коричневой морщинистой кожи – почти неразличимые примитивные существа, лежащие на месте, колыхаемые волной, одним концом всасывающие морскую воду, а другим ее выпускающие. Растительные и животные микроорганизмы фильтруются в этой «сосиске» и обрабатываются в желудке простым механизмом переваривания. Жизнь морских огурцов интересной никак не назовешь. Они тупо переваливаются на песке, втягивая в себя соленую воду с монотонной регулярностью. Трудно поверить в то, что эти жирные существа способны как-то себя защитить и что такая необходимость вообще может возникнуть, однако на поверку они используют любопытный способ выражения своего неудовольствия. Стоит только вытащить морского огурца, как он выстреливает в тебя морской водой хоть спереди, хоть сзади, и без видимого мышечного усилия. Мы с Джорджем даже придумали игру с этим импровизированным водяным пистолетом. Стоя в воде, мы по очереди выстреливали из него и смотрели, куда падает струя. Тот, у кого в этом месте обнаруживалась более разнообразная морская жизнь, зарабатывал очко. Порой, как в любой игре, эмоции захлестывали, сыпались негодующие обвинения в жульничестве, которые яростно отрицались. Вот тут-то и приходился кстати водяной пистолет. Но потом мы всегда снова укладывали их среди водорослей. И в следующий раз они лежали на том же месте и, скорее всего, в той же позе, только время от времени вяло переворачивались с боку на бок.
Разобравшись с огурцами, мы охотились за морскими раковинами для моей коллекции или вели долгие дискуссии вокруг других представителей местной фауны. В какой-то момент Джордж осознавал, что все это, конечно, замечательно, но не является образованием в строгом смысле слова, и тогда мы залегали на мелководье и продолжали наши занятия, а вокруг собирались косяки мелких рыбешек, которые нежно покусывали нас за ноги.
– Французский и британский флот медленно сближались перед решающим морским сражением. Когда наблюдатель заметил корабли противника, Нельсон стоял на капитанском мостике и в телескоп следил за полетом птиц… О приближении французской эскадры его уже по-дружески предупредила чайка… скорее всего, большая черноспинная. Корабли маневрировали как умели… с помощью парусов… тогда ведь еще не было моторов, даже подвесных, и все делалось не так быстро, как сегодня. Поначалу английских моряков испугала французская армада, но, увидев, с какой невозмутимостью Нельсон, сидя на мостике, клеит ярлычки на птичьи яйца из своей коллекции, они поняли, что можно не волноваться…
Море, похожее на теплое шелковое покрывало, тихо раскачивало мое тело. Никаких волн, только это убаюкивающее подводное течение, своего рода морской пульс. Цветные рыбки, завидев мои ноги, вздрагивали, перестраивались, делали стойку и разевали беззубые рты. В изнеможенной от жары оливковой роще цикада о чем-то стрекотала себе под нос.
– …и тогда Нельсона спешно унесли с капитанского мостика, чтобы никто из команды не догадался о том, что он ранен… Рана была смертельная. Сражение шло полным ходом, когда он, лежа в трюме, прошептал последние слова: «Поцелуй меня, Харди»… и испустил дух. Что? Ну конечно. Он заранее сказал, что если с ним что-то случится, то коллекция птичьих яиц достанется Харди… Хотя Англия потеряла своего лучшего моряка, сражение было выиграно, и это имело важные последствия для всей Европы…
Бухту пересекала белеющая под солнцем лодка, ею управлял стоящий на корме смуглый рыбак в драных штанах, а весло, которым он загребал, мелькало в воде, как рыбий хвост. Он лениво помахал нам рукой. Разделенные голубой гладью, мы слышали, как весло с жалобным скрипом проворачивалось в уключине, а потом с тихим хлюпаньем погружалось в воду.
5
Паучий рай
Однажды жарким томным днем, когда, казалось, все спят, кроме неугомонных цикад, мы с Роджером решили проверить, как далеко можно забраться по холмам до наступления сумерек. Миновав оливковые рощи, все в белых полосах и пятнах от слепящего солнца, с перегретым стоячим воздухом, мы забрались выше деревьев, на голую скалистую вершину, и присели отдохнуть. Внизу раскинулся спящий остров с переливающейся морской гладью в дымке испарений: серо-зеленые оливы, черные кипарисы, прибрежные скалы пестрой расцветки и опаловое море, местами бирюзовое, местами нефритовое, в парочке складок там, где оно огибало мыс, поросший спутанными оливами. Прямо под нами раскинулась мелкая, едва голубеющая, почти белая бухточка с ослепительно-белым песчаным пляжем в виде полумесяца. После восхождения я был мокрый от пота, а Роджер сидел с высунутым языком и пеной на усах. Мы решили, что не полезем ни на какие горы, а, наоборот, лучше искупнемся. Так что мы спустились по склону и оказались в безлюдной, тихой бухточке, разомлевшей под палящими лучами солнца. Такие же полусонные, мы уселись в теплой воде, и я стал ковыряться в песочке. Наткнувшись на какой-нибудь голыш или осколок бутылочного стекла, вылизанный и отполированный морем до такой степени, что он превратился в настоящий изумруд, зеленый и прозрачный, я протягивал свою находку внимательно наблюдавшему за мной Роджеру. Не совсем понимая, чего я от него хочу, но не желая меня обижать, он осторожно зажимал ее зубами, чтобы через какое-то время, убедившись, что я этого не вижу, выбросить ее обратно в воду со вздохом облегчения.
Потом я обсыхал, лежа на камнях, а Роджер трусил по мелководью и, фыркая, пытался цапнуть за синий плавник хоть одну морскую собачку с надутой, ничего не выражающей мордочкой, но они сновали между камней со скоростью ласточек. Тяжело дыша, не спуская глаз с прозрачной воды, Роджер с предельным вниманием следил за их перемещениями. Окончательно просохнув, я надел шорты и рубашку и позвал своего дружка. Он неохотно направился ко мне, то и дело оглядываясь на морских собачек, продолжавших мелькать над песчаным дном, подсвеченным яркими лучами. Приблизившись почти вплотную, он так основательно отряхнулся, что обдал меня настоящим водопадом.
После купания тело мое отяжелело и расслабилось, а кожа как будто покрылась шелковистой корочкой соли. Медленно, в каких-то своих грезах, мы двинулись в сторону главной дороги. Я вдруг почувствовал голод и стал думать, в каком бы из соседних домов мне перекусить. Я постоял в раздумье, поднимая мелкую белую пыль носком ботинка. Если я загляну в ближайший дом, к Леоноре, то меня угостят хлебом с инжиром, но при этом она мне прочитает бюллетень о состоянии здоровья дочери. Ее дочь была хрипатой мегерой с легким косоглазием, она мне решительно не нравилась, и ее здоровье меня совсем не волновало. Я решил не идти к Леоноре. Жаль, конечно, ведь у нее рос лучший в округе инжир, но плата за лакомство была слишком высокой. Если я наведаюсь к рыбаку Таки, то у него сейчас сиеста, и я услышу из дома с наглухо закрытыми ставнями раздраженный крик: «Проваливай отсюда, кукурузина!» Христаки и его семья, скорее всего, окажутся на месте, но за угощение мне придется отвечать на кучу скучных вопросов: «Англия больше, чем Корфу? Какое там население? Все ли жители лорды? Как выглядит поезд? Растут ли в Англии деревья?» – и так до бесконечности. Если бы сейчас было утро, я бы срезал путь через поля и виноградники и по дороге утолил голод за счет своих щедрых друзей – оливки, хлеб, виноград, инжир, – а после небольшого крюка, пожалуй, заглянул бы во владения Филомены и под конец съел бы хрустящий розовый ломоть арбуза, холодного как лед. Но наступило время сиесты, когда крестьяне спят в домах, заперев двери и закрыв ставни. Это была настоящая проблема, и, пока я над ней ломал голову, голод все сильнее давал о себе знать, я шагал все быстрей и быстрей, пока Роджер протестующе не фыркнул, посмотрев на меня с явной обидой.
Вдруг меня осенило. Прямо за холмом, в зазывно белеющем домике, жил старый пастух Яни с женой. Я знал, что сиесту он проводит в тени виноградника, и, если произвести должный шум, пастух наверняка проснется. А уж проснувшись, он непременно проявит гостеприимство. Не было такого крестьянского дома, где бы тебя отпустили не солоно хлебавши. Ободренный этой мыслью, я свернул на петляющую каменистую тропу, проделанную копытами коз Яни, через холм и дальше вниз, в долину, где красная крыша пастушьего дома смотрелась ярким пятном среди внушительных оливковых стволов. Подойдя достаточно близко, я швырнул камень, чтобы Роджер за ним сбегал. Это была одна из его любимых игр, но, раз начавшись, она требовала продолжения, в противном случае он начинал что есть мочи лаять, пока ты не повторял маневр, только чтобы пес отвязался. Роджер принес камень, бросил его к моим ногам и в ожидании отошел – уши торчком, глаза блестят, мышцы напряжены, к действию готов. Однако я проигнорировал и его, и камень. Удивившись, он проверил, все ли с этим камнем в порядке, и снова на меня посмотрел. Я засвистел какую-то мелодию, поглядывая на небо. Роджер пробно тявкнул, а убедившись в том, что я не обращаю на него никакого внимания, разразился громким басовитым лаем, который эхом разнесся среди олив. Я дал ему полаять минут пять. Теперь Яни наверняка проснулся. Наконец я швырнул камень, за которым Роджер бросился на радостях, а сам направился в обход дома.
Старый пастух, как я и думал, отдыхал в драной тени виноградной лозы, обвивавшей высокие железные шпалеры. Но, к моему огромному разочарованию, он не проснулся. А сидел он на простом стуле соснового дерева, наклоненном к стене под опасным углом. Руки висели как плети, ноги вытянуты вперед, а его знатные усы, порыжевшие и поседевшие от никотина и старости, поднимались и подрагивали от храпа, словно необычные водоросли от легкого подводного течения. Толстые пальцы на руках-обрубках дергались во сне, и я разглядел желтоватые ребристые ногти, похожие на оплывы сальной свечи. Его смуглое лицо в морщинах и бороздах, как кора сосны, ничего не выражало, глаза плотно закрыты. Я сверлил его взглядом в надежде разбудить, да все без толку. Приличия не позволяли его растолкать, и я мысленно решал дилемму, стоит ли ждать, когда он сам проснется, или уж смириться с занудством Леоноры, когда из-за дома с высунутым языком и торчащими ушами выскочил потерявшийся Роджер. Увидев меня, он радостно вильнул хвостом и огляделся с видом желанного посетителя. Вдруг он застыл, усы встопорщились, и он начал медленно подходить – ноги напряглись, весь дрожит. Это он увидел то, чего не заметил я: под накренившимся стулом, свернувшись, лежала большая длинноногая серая кошка, которая внаглую разглядывала нас своими зелеными глазищами. Не успел я схватить Роджера, как он бросился на добычу. Одним движением, свидетельствовавшим о долгой практике, кошка пулей долетела до шишковатой лозы, с пьяной расслабленностью обвившейся вокруг шпалеры, и взлетела наверх с помощью цепких лап. Усевшись среди гроздьев светлого винограда, она посмотрела вниз на Роджера и как будто сплюнула. Роджер, совсем озверев, запрокинул голову и разразился угрожающим, можно сказать, изничтожающим лаем. Яни открыл глаза, стул под ним закачался, и он отчаянно замахал руками, чтобы сохранить равновесие. Стул на миг завис в некоторой нерешительности, а затем со стуком опустился на все четыре ножки.
– Святой Спиридон, помоги! – взмолился Яни, и усы у него задрожали. – Не оставь меня, Господи!
Озираясь, чтобы понять причину бучи, он увидел меня, скромно сидящего на стене. Я вежливо и радушно приветствовал его, как будто ничего не случилось, и поинтересовался, хорошо ли он поспал. Яни с улыбочкой поднялся на ноги и сладострастно почесал живот.
– Вот кто шумит так, что у меня чуть не лопнула голова. Ну, будьте здоровы. Садитесь, юный лорд. – Он протер свой стул и пододвинул мне. – Я рад вас видеть. Не хотите со мной поесть и выпить? Вон какой сегодня жаркий день. В такую жару того гляди бутылка расплавится.
Он потянулся и громко зевнул, показав беззубые десны, как у младенца. Потом развернулся к дому и прокричал:
– Афродита… Афродита… женщина, просыпайся… пришли иностранцы… здесь со мной юный лорд… Неси еду… Ты меня слышишь?
– Да слышу, слышу, – донесся приглушенный голос из-за закрытых ставень.
Яни крякнул, вытер усы и деликатно скрылся за ближайшим оливковым деревом, откуда снова появился, застегивая штаны и зевая. Он уселся на стену рядом со мной.