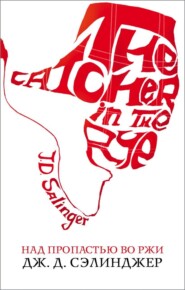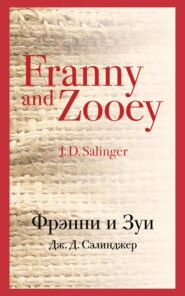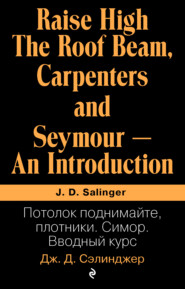По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дж. Д. Сэлинджер
Автор
Жанр
Год написания книги
1945
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не смеши меня. Ты даже на лошади кататься не можешь.
– Кто не может? Еще как могу. Ну еще б не мог. Этому учат за две минуты, – говорю. – Хватит уже ковырять. – Она ковыряла этот пластырь на руке. – Тебя кто стриг? – спрашиваю. Я только что заметил, какую дурацкую прическу ей сделали. Слишком коротко.
– Тебя не касается, – говорит. Очень наглая иногда бывает. Вполне себе наглая такая. – Ты, я думаю, опять все предметы до единого провалил, – говорит – очень так нагло. Но и уматно в каком-то смысле. Иногда она разговаривает, как, нафиг, училка, а сама же малявка, да и только.
– А вот и нет, – говорю. – Английский я сдал. – А потом, вот просто от нефиг делать, я ее за попу ущипнул. Очень уж сильно в воздух торчала, так Фиби улеглась на бок. Да и попы-то у нее почти нет. Я не сильно, а она все равно по руке меня садануть попыталась, только промазала.
А потом вдруг ни с того ни с сего говорит:
– Ох, ну и зачем же ты только это сделал? – В смысле, почему меня выперли. Мне сразу как-то убого стало, так она сказала это.
– Господи, Фиби, не спрашивай. Меня уже тошнит, что все спрашивают, – говорю. – Мильон причин. Это одна из худших школ, куда я ходил. Там полно фуфла. И погани всякой. Столько поганых типусов ты в жизни не видала. Например, сидишь и треплешься у кого-нибудь в комнате, а кто-нибудь еще хочет зайти, так его не пускают, если это какой-нибудь бажбан прыщавый. Все вечно двери себе запирают, если кто-то хочет зайти. И у них еще такое тайное, нафиг, братство, куда я зассал не вступать. Там есть такой прыщавый зануда, Роберт Экли, – он вот вступить хотел. Долго хотел и пытался, а его не пускали. Только потому, что он прыщавый и зануда. Мне об этом даже говорить не в жилу. Говно школа. Поверь мне на слово.
Фиби такая ничего не сказала – но она слушала. У нее по затылку видно, что слушала. Она всегда слушает, если что-нибудь ей рассказываешь. А самая умора – она почти что всегда понимает, о чем, нахер, ты ей говоришь. По-честному врубается.
И я дальше ей про Пенси излагал. Как бы в струю было.
– Там даже пара нормальных преподов – и те фуфло, – говорю. – Был там один такой старикан, мистер Спенсер. Жена его всегда горячим шоколадом поит и прочей фигней, и они, в общем, вполне себе нормальные такие. Но ты б его видела, когда к нему на историю зашел директор, этот Тёрмер, и сел на заднюю парту. Он вечно приходит и сидит на задней парте, ну где-то с полчаса. С понтом, инкогнито или как-то. А немного погодя посидел он там – и давай этого Спенсера перебивать, корки бородатые отмачивать. Этот Спенсер чуть не сдох, пока хмыкал, улыбался и всяко-разно, будто Тёрмер этот – принц сказочный, нафиг, или еще как-то.
– Не ругайся так сильно.
– Рвать тянет, чесслово, – говорю. – Потом на День ветеранов. У них день такой есть, День ветеранов, когда все эти туполомы, которые Пенси заканчивали года с 1776-го, возвращаются и бродят везде, с женами, детьми и прочей шушерой. Видела б ты этого старикана – лет полста ему. Он чего – он пришел к нам в комнату, в дверь постучал и спрашивает, можно ли ему в сортир. А сортир – в конце коридора, фиг знает, почему вообще у нас стал спрашивать. Знаешь, чего сказал? Говорит, ему интересно, сохранились ли его инициалы, которые он на двери тубза вырезал. Он же чего – он вырезал, нафиг, эти свои дурацкие убогие инициалы на двери в тубзо лет девяносто назад, и теперь ему хотелось поглядеть, там они или нет. И мы с соседом проводили его до сортира и всяко-разно, и стояли смотрели, пока он на всех дверях в кабинки инициалы свои искал. И все это время он нам булки мял – про то, что в Пенси у него были самые счастливые дни в жизни, советы на будущее нам давал и всяко-разно. Ух какая меня от него тоска взяла! Я не в смысле, что он плохой, – он ничего. Но ведь не обязательно гады тоску наводят, это и хороший может запросто. Тут же всего-то надо, что надавать побольше фуфловых советов, пока ищешь свои инициалы на какой-нибудь двери в тубзо, вот и все. Фиг знает. Может, все и ничего было бы, если б не одышка у него. А он весь запыхался, когда по лестнице наверх перся, и пока он эти свои инициалы искал, сопел все, и ноздри у него смешные и убогие такие, и он нам со Стрэдлейтером все талдычил, чтоб мы из Пенси как можно больше взяли. Господи, Фиби! Не могу я объяснить. Да мне просто не в жилу все, что там творилось. Не могу объяснить.
Тут Фиби такая чего-то сказала, только я ее не расслышал. Она ртом в самую подушку воткнулась, и я ничего не услышал.
– Чего? – говорю. – Рот отлепи. Я ни фига не слышу, когда ты ртом в подушку.
– Тебе ничего не нравится, что творится.
Когда она так сказала, мне еще тоскливей стало.
– А вот и нет. А вот и нет. Еще как нравится. Не говори так. Зачем, нафиг, ты так говоришь?
– Потому что нет. Тебе никакие школы не нравятся. Тебе миллион всего не нравится. Нет, и все.
– Нравится. Вот тут ты не права – вот тут как раз и ошиблась! На фига вот такое говорить? – говорю. Ух какая мне от нее тоска.
– Потому что нет, – говорит. – Назови хоть что-нибудь.
– Что-нибудь? Такое, чтоб мне нравилось? – говорю. – Ладно.
Засада в том, что я не слишком путёво мог сосредоточиться. Иногда сосредоточиться офигенно трудно.
– Что-нибудь одно, что мне сильно в жилу? – спрашиваю.
А она не ответила. Только искоса так смотрела на меня, нахер, с другой стороны кровати. Миль тыща до нее.
– Ну давай, скажи, – говорю. – Одно такое, что мне сильно нравится или просто в жилу?
– Что сильно нравится.
– Ладно, – говорю. Только засада в том, что никак не сосредоточиться. В башке только те две монашки, которые гроши ходили собирали в свои битые плетеные корзинки. Особенно очкастая со стальными дужками. И тот пацан, знакомый по Элктон-Хиллз. Там в Элктон-Хиллз был один пацан по имени Джеймз Касл, который не хотел брать обратно то, чего сказал про другого пацана, самодовольного такого, Фила Стейбила. Джеймз Касл назвал его самодовольным типусом, и кто-то из паршивых корешей Стейбила пошел и настучал на него Стейбилу. Поэтому Стейбил и еще шесть гнусных гадов пошли в комнату к Джеймзу Каслу, вломились туда, заперли, нафиг, дверь и хотели, чтобы он взял свои слова обратно, а он ни в какую. Ну они и принялись за него. Не буду говорить даже, что они с ним делали – слишком отвратительно, – а он все равно ничего не брал, этот Джеймз Касл. Вы б его видели. Тощий такой хиляга на вид, руки что карандашики. Наконец он чего – он не стал ничего обратно брать, а выпрыгнул из окна. Я как раз в ду?ше был и всяко-разно, но даже там слышно было, как он снаружи грохнулся. Я-то просто подумал, что-то из окна упало – радио или стол там, или как-то, не пацан же, ничего. А потом слышу – все бегут по коридору, вниз по лестнице, поэтому я халат накинул и тоже рванул, а там этот Джеймз Касл прямо на каменных ступеньках лежит и всяко-разно. Мертвый, и зубы эти его, и кровь везде, а к нему даже не подойдет никто. На нем был такой свитер с горлом, я ему давал поносить. А с теми, кто с ним в комнате был, ничего не сделали, только исключили. Даже в тюрьму не посадили.
Вот и все, что я мог придумать. Те две монашки, с которыми за завтраком познакомился, да этот пацан Джеймз Касл, которого я знал в Элктон-Хиллз. Самая умора как раз в том, что с Джеймзом Каслом мы еле знакомы были, сказать вам правду. Он такой был спокойный очень. Мы с ним на матёму вместе ходили, только он совсем на другой стороне сидел, вообще почти не вставал отвечать и к доске ни выходил, ничего. Есть такие парни в школе – вообще почти отвечать не встают и к доске не ходят. По-моему, мы с ним один только раз и поговорили, когда он спросил, нельзя ли взять у меня поносить свитер с горлом. Я, нахер, чуть не сдох, когда он спросил, – так удивился и всяко-разно. Помню, я зубы чистил в хезнике, когда он спросил. Говорит такой, у него двоюродный приезжает и берет его с собой покататься и всяко-разно. А я даже не знал, что он знает, что у меня есть такой свитер с горлом. Про него я одно только знал – что у него фамилия по списку перед моей стоит. Кабел Р., Кабел У., Касл, Колфилд – до сих пор не забыл. Сказать вам правду, я чуть свитер-то от него не зажилил. Просто потому, что не сильно его знал.
– Чего? – спрашиваю. Фиби мне что-то сказала, только я не расслышал.
– Ты даже одну штуку придумать не можешь.
– А вот и могу. Вот и могу.
– Ну так придумай.
– Мне нравится Олли, – говорю. – И мне нравится то, что я вот сейчас делаю. Сижу тут с тобой и болтаю, и думаю про всякую фигню, и…
– Олли умер… Ты всегда так говоришь! Если кто-то умер и все такое, и на Небо попал, тогда не считается…
– Я знаю, что он умер! Думаешь, я не знаю? Но он же мне может по-прежнему нравиться или нет? Просто потому, что кто-то умер, он же тебе не перестает нравиться, ёксель-моксель, – особенно если они в тыщу раз нормальнее того, про кого знаешь, что он жив и всяко-разно.
Фиби такая ничего не сказала. Когда она не может придумать, что сказать, она вообще ни слова, нафиг, не говорит.
– В общем, мне сейчас нравится, – говорю. – В смысле – вот сейчас. Сидеть тут с тобой и просто по ушам ездить, и дурака…
– Да это вообще понарошку!
– Ничего не понарошку! И вовсе не понарошку совсем! Чего, нафиг, ради? Вечно все думают, что всё понарошку. И меня, нафиг, уже от этого тошнит.
– Хватит ругаться. Ладно, еще что-нибудь назови. Назови, кем ты бы хотел быть. Ну, ученый. Или юрист, или еще чего-нибудь.
– Я не могу быть ученым. У меня с точными науками засада.
– Ну юристом – как папа и все такое.
– Юристы, наверно, ничего – только меня не привлекает, – говорю. – В смысле, они ничего, если ходят все время и спасают невинные жизни, и вроде того, только если ты юрист, ты таким не маешься. Только гроши зашибаешь, играешь в гольф там, в бридж, покупаешь машины, пьешь мартини и выглядишь как ферт. А кроме того. Даже если и ходишь, и спасаешь невинные жизни и всяко-разно, откуда тебе знать, ты это делаешь потому, что тебе в жилу было спасать невинные жизни, или потому, что ты ходил и спасал, потому что на самом деле тебе хотелось быть зашибенским юристом, чтоб тебя все по спине хлопали и поздравляли в суде, когда, нафиг, процесс закончится, репортеры и прочие, как в этом гнусном кино? Откуда тебе знать, что ты не фуфло? Засада в том, что ниоткуда.
Я не сильно уверен, просекла Фиби, что за херню я ей толкую, или нет. В смысле, она ж мелкая малявка все-таки и всяко-разно. Но она хоть слушала. Если кто-то на крайняк хоть слушает, уже нехило.
– Папа тебя убьет. Он тебя просто убьет, – говорит.
Только я не слушал. Я про совсем другую фигню думал – совсем долбанутую.
– Знаешь, кем бы я хотел быть? – спрашиваю. – Знаешь, кем? В смысле, если б, нафиг, у меня выбор был?
– Кем? И хватит ругаться.
– Знаешь такую песню – «Если кто ловил кого-то сквозь густую рожь»? Мне бы…
– Там «Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь»! – Фиби такая говорит. – Это стих такой. Роберта Бёрнса.
– Кто не может? Еще как могу. Ну еще б не мог. Этому учат за две минуты, – говорю. – Хватит уже ковырять. – Она ковыряла этот пластырь на руке. – Тебя кто стриг? – спрашиваю. Я только что заметил, какую дурацкую прическу ей сделали. Слишком коротко.
– Тебя не касается, – говорит. Очень наглая иногда бывает. Вполне себе наглая такая. – Ты, я думаю, опять все предметы до единого провалил, – говорит – очень так нагло. Но и уматно в каком-то смысле. Иногда она разговаривает, как, нафиг, училка, а сама же малявка, да и только.
– А вот и нет, – говорю. – Английский я сдал. – А потом, вот просто от нефиг делать, я ее за попу ущипнул. Очень уж сильно в воздух торчала, так Фиби улеглась на бок. Да и попы-то у нее почти нет. Я не сильно, а она все равно по руке меня садануть попыталась, только промазала.
А потом вдруг ни с того ни с сего говорит:
– Ох, ну и зачем же ты только это сделал? – В смысле, почему меня выперли. Мне сразу как-то убого стало, так она сказала это.
– Господи, Фиби, не спрашивай. Меня уже тошнит, что все спрашивают, – говорю. – Мильон причин. Это одна из худших школ, куда я ходил. Там полно фуфла. И погани всякой. Столько поганых типусов ты в жизни не видала. Например, сидишь и треплешься у кого-нибудь в комнате, а кто-нибудь еще хочет зайти, так его не пускают, если это какой-нибудь бажбан прыщавый. Все вечно двери себе запирают, если кто-то хочет зайти. И у них еще такое тайное, нафиг, братство, куда я зассал не вступать. Там есть такой прыщавый зануда, Роберт Экли, – он вот вступить хотел. Долго хотел и пытался, а его не пускали. Только потому, что он прыщавый и зануда. Мне об этом даже говорить не в жилу. Говно школа. Поверь мне на слово.
Фиби такая ничего не сказала – но она слушала. У нее по затылку видно, что слушала. Она всегда слушает, если что-нибудь ей рассказываешь. А самая умора – она почти что всегда понимает, о чем, нахер, ты ей говоришь. По-честному врубается.
И я дальше ей про Пенси излагал. Как бы в струю было.
– Там даже пара нормальных преподов – и те фуфло, – говорю. – Был там один такой старикан, мистер Спенсер. Жена его всегда горячим шоколадом поит и прочей фигней, и они, в общем, вполне себе нормальные такие. Но ты б его видела, когда к нему на историю зашел директор, этот Тёрмер, и сел на заднюю парту. Он вечно приходит и сидит на задней парте, ну где-то с полчаса. С понтом, инкогнито или как-то. А немного погодя посидел он там – и давай этого Спенсера перебивать, корки бородатые отмачивать. Этот Спенсер чуть не сдох, пока хмыкал, улыбался и всяко-разно, будто Тёрмер этот – принц сказочный, нафиг, или еще как-то.
– Не ругайся так сильно.
– Рвать тянет, чесслово, – говорю. – Потом на День ветеранов. У них день такой есть, День ветеранов, когда все эти туполомы, которые Пенси заканчивали года с 1776-го, возвращаются и бродят везде, с женами, детьми и прочей шушерой. Видела б ты этого старикана – лет полста ему. Он чего – он пришел к нам в комнату, в дверь постучал и спрашивает, можно ли ему в сортир. А сортир – в конце коридора, фиг знает, почему вообще у нас стал спрашивать. Знаешь, чего сказал? Говорит, ему интересно, сохранились ли его инициалы, которые он на двери тубза вырезал. Он же чего – он вырезал, нафиг, эти свои дурацкие убогие инициалы на двери в тубзо лет девяносто назад, и теперь ему хотелось поглядеть, там они или нет. И мы с соседом проводили его до сортира и всяко-разно, и стояли смотрели, пока он на всех дверях в кабинки инициалы свои искал. И все это время он нам булки мял – про то, что в Пенси у него были самые счастливые дни в жизни, советы на будущее нам давал и всяко-разно. Ух какая меня от него тоска взяла! Я не в смысле, что он плохой, – он ничего. Но ведь не обязательно гады тоску наводят, это и хороший может запросто. Тут же всего-то надо, что надавать побольше фуфловых советов, пока ищешь свои инициалы на какой-нибудь двери в тубзо, вот и все. Фиг знает. Может, все и ничего было бы, если б не одышка у него. А он весь запыхался, когда по лестнице наверх перся, и пока он эти свои инициалы искал, сопел все, и ноздри у него смешные и убогие такие, и он нам со Стрэдлейтером все талдычил, чтоб мы из Пенси как можно больше взяли. Господи, Фиби! Не могу я объяснить. Да мне просто не в жилу все, что там творилось. Не могу объяснить.
Тут Фиби такая чего-то сказала, только я ее не расслышал. Она ртом в самую подушку воткнулась, и я ничего не услышал.
– Чего? – говорю. – Рот отлепи. Я ни фига не слышу, когда ты ртом в подушку.
– Тебе ничего не нравится, что творится.
Когда она так сказала, мне еще тоскливей стало.
– А вот и нет. А вот и нет. Еще как нравится. Не говори так. Зачем, нафиг, ты так говоришь?
– Потому что нет. Тебе никакие школы не нравятся. Тебе миллион всего не нравится. Нет, и все.
– Нравится. Вот тут ты не права – вот тут как раз и ошиблась! На фига вот такое говорить? – говорю. Ух какая мне от нее тоска.
– Потому что нет, – говорит. – Назови хоть что-нибудь.
– Что-нибудь? Такое, чтоб мне нравилось? – говорю. – Ладно.
Засада в том, что я не слишком путёво мог сосредоточиться. Иногда сосредоточиться офигенно трудно.
– Что-нибудь одно, что мне сильно в жилу? – спрашиваю.
А она не ответила. Только искоса так смотрела на меня, нахер, с другой стороны кровати. Миль тыща до нее.
– Ну давай, скажи, – говорю. – Одно такое, что мне сильно нравится или просто в жилу?
– Что сильно нравится.
– Ладно, – говорю. Только засада в том, что никак не сосредоточиться. В башке только те две монашки, которые гроши ходили собирали в свои битые плетеные корзинки. Особенно очкастая со стальными дужками. И тот пацан, знакомый по Элктон-Хиллз. Там в Элктон-Хиллз был один пацан по имени Джеймз Касл, который не хотел брать обратно то, чего сказал про другого пацана, самодовольного такого, Фила Стейбила. Джеймз Касл назвал его самодовольным типусом, и кто-то из паршивых корешей Стейбила пошел и настучал на него Стейбилу. Поэтому Стейбил и еще шесть гнусных гадов пошли в комнату к Джеймзу Каслу, вломились туда, заперли, нафиг, дверь и хотели, чтобы он взял свои слова обратно, а он ни в какую. Ну они и принялись за него. Не буду говорить даже, что они с ним делали – слишком отвратительно, – а он все равно ничего не брал, этот Джеймз Касл. Вы б его видели. Тощий такой хиляга на вид, руки что карандашики. Наконец он чего – он не стал ничего обратно брать, а выпрыгнул из окна. Я как раз в ду?ше был и всяко-разно, но даже там слышно было, как он снаружи грохнулся. Я-то просто подумал, что-то из окна упало – радио или стол там, или как-то, не пацан же, ничего. А потом слышу – все бегут по коридору, вниз по лестнице, поэтому я халат накинул и тоже рванул, а там этот Джеймз Касл прямо на каменных ступеньках лежит и всяко-разно. Мертвый, и зубы эти его, и кровь везде, а к нему даже не подойдет никто. На нем был такой свитер с горлом, я ему давал поносить. А с теми, кто с ним в комнате был, ничего не сделали, только исключили. Даже в тюрьму не посадили.
Вот и все, что я мог придумать. Те две монашки, с которыми за завтраком познакомился, да этот пацан Джеймз Касл, которого я знал в Элктон-Хиллз. Самая умора как раз в том, что с Джеймзом Каслом мы еле знакомы были, сказать вам правду. Он такой был спокойный очень. Мы с ним на матёму вместе ходили, только он совсем на другой стороне сидел, вообще почти не вставал отвечать и к доске ни выходил, ничего. Есть такие парни в школе – вообще почти отвечать не встают и к доске не ходят. По-моему, мы с ним один только раз и поговорили, когда он спросил, нельзя ли взять у меня поносить свитер с горлом. Я, нахер, чуть не сдох, когда он спросил, – так удивился и всяко-разно. Помню, я зубы чистил в хезнике, когда он спросил. Говорит такой, у него двоюродный приезжает и берет его с собой покататься и всяко-разно. А я даже не знал, что он знает, что у меня есть такой свитер с горлом. Про него я одно только знал – что у него фамилия по списку перед моей стоит. Кабел Р., Кабел У., Касл, Колфилд – до сих пор не забыл. Сказать вам правду, я чуть свитер-то от него не зажилил. Просто потому, что не сильно его знал.
– Чего? – спрашиваю. Фиби мне что-то сказала, только я не расслышал.
– Ты даже одну штуку придумать не можешь.
– А вот и могу. Вот и могу.
– Ну так придумай.
– Мне нравится Олли, – говорю. – И мне нравится то, что я вот сейчас делаю. Сижу тут с тобой и болтаю, и думаю про всякую фигню, и…
– Олли умер… Ты всегда так говоришь! Если кто-то умер и все такое, и на Небо попал, тогда не считается…
– Я знаю, что он умер! Думаешь, я не знаю? Но он же мне может по-прежнему нравиться или нет? Просто потому, что кто-то умер, он же тебе не перестает нравиться, ёксель-моксель, – особенно если они в тыщу раз нормальнее того, про кого знаешь, что он жив и всяко-разно.
Фиби такая ничего не сказала. Когда она не может придумать, что сказать, она вообще ни слова, нафиг, не говорит.
– В общем, мне сейчас нравится, – говорю. – В смысле – вот сейчас. Сидеть тут с тобой и просто по ушам ездить, и дурака…
– Да это вообще понарошку!
– Ничего не понарошку! И вовсе не понарошку совсем! Чего, нафиг, ради? Вечно все думают, что всё понарошку. И меня, нафиг, уже от этого тошнит.
– Хватит ругаться. Ладно, еще что-нибудь назови. Назови, кем ты бы хотел быть. Ну, ученый. Или юрист, или еще чего-нибудь.
– Я не могу быть ученым. У меня с точными науками засада.
– Ну юристом – как папа и все такое.
– Юристы, наверно, ничего – только меня не привлекает, – говорю. – В смысле, они ничего, если ходят все время и спасают невинные жизни, и вроде того, только если ты юрист, ты таким не маешься. Только гроши зашибаешь, играешь в гольф там, в бридж, покупаешь машины, пьешь мартини и выглядишь как ферт. А кроме того. Даже если и ходишь, и спасаешь невинные жизни и всяко-разно, откуда тебе знать, ты это делаешь потому, что тебе в жилу было спасать невинные жизни, или потому, что ты ходил и спасал, потому что на самом деле тебе хотелось быть зашибенским юристом, чтоб тебя все по спине хлопали и поздравляли в суде, когда, нафиг, процесс закончится, репортеры и прочие, как в этом гнусном кино? Откуда тебе знать, что ты не фуфло? Засада в том, что ниоткуда.
Я не сильно уверен, просекла Фиби, что за херню я ей толкую, или нет. В смысле, она ж мелкая малявка все-таки и всяко-разно. Но она хоть слушала. Если кто-то на крайняк хоть слушает, уже нехило.
– Папа тебя убьет. Он тебя просто убьет, – говорит.
Только я не слушал. Я про совсем другую фигню думал – совсем долбанутую.
– Знаешь, кем бы я хотел быть? – спрашиваю. – Знаешь, кем? В смысле, если б, нафиг, у меня выбор был?
– Кем? И хватит ругаться.
– Знаешь такую песню – «Если кто ловил кого-то сквозь густую рожь»? Мне бы…
– Там «Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь»! – Фиби такая говорит. – Это стих такой. Роберта Бёрнса.