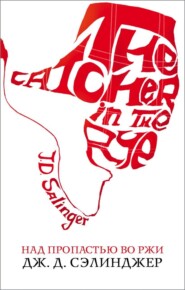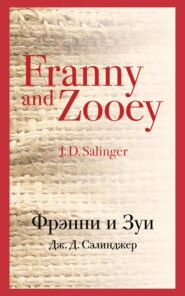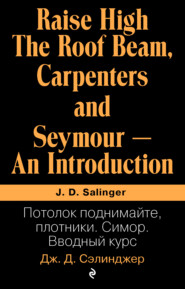По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дж. Д. Сэлинджер
Автор
Жанр
Год написания книги
1945
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На столе. – Он никогда не помнит, куда, нафиг, все кладет. – Под кашне.
И он положил их в карман – ко мне в карман.
Я вдруг – для разнообразия – передвинул кепарь вперед козырьком. Мне вдруг ни с того ни с сего стало как-то дергано. Я ж вообще дерганый.
– Слышь, а куда вы с ней на свиданку двигаете? – спрашиваю. – Ты уже прикинул?
– Фиг знает. В Нью-Йорк, если время будет. Она только до полдесятого отпросилась, язви ее.
Фигово он это сказал, поэтому я ему:
– Это она потому, что просто не знала, какой ты симпотный очаровашка, гад. А если б знала, отпросилась бы до полдесятого утра.
– Правильно, нафиг, – говорит Стрэдлейтер. Его так просто не допечь. Слишком самонадеянный. – Ладно, без шуток. Напиши мне сочинение, – говорит. Он уже и пальто надел, совсем к выходу намылился. – Сильно не напрягайся, просто чтоб наглядное было, как не знаю что. Лады?
Я ему не ответил. Не хотелось. Я только сказал:
– Спроси, она так же дамок на задней линии держит?
– Лады, – говорит Стрэдлейтер, но я знал – ни шиша он не спросит. – А ты не напрягайся. – И он с грохотом отвалил нафиг.
После его ухода я где-то с полчаса посидел. То есть просто сидел в кресле, ни фига не делал. Думал про Джейн, как у Стрэдлейтера с ней свиданка и всяко-разно. Так дергался, что чуть не спятил. Я уже говорил вам, какой Стрэдлейтер озабоченный гад.
Тут вдруг Экли снова в комнату врывается через эти, нафиг, шторки душевые, как обычно. Я в кои-то свои дурацкие веки, по-честному, рад был его видеть. Хоть отвлек меня от этой бодяги всей.
Он мотылялся по комнате где-то до ужина, трындел про всех в Пенси, кого он терпеть не может, да еще неслабый прыщ на подбородке выдавливал. Даже платок не достал. Думаю, у этого гада и платков-то не водится, если вам правду сказать. Я у него их по-любому ни разу не видел.
5
В субботу по вечерам в Пенси кормили одним и тем же. Как бы кипиш страшный, потому что давали бифштекс. На тыщу спорим, они так делали потому, что у многих парней штрики по воскресеньям в школу приезжают, и этот Тёрмер, наверно, прикинул: всякая штруня своего дорогушу станет допрашивать, что это он кушал вчера на ужин, и он ей скажет: «Бифштекс». Куда деваться. Видали б вы эти бифштексы. Такие сухие козявки, даже не разрежешь. По таким вечерам к бифштексам всегда давали комки пюре, а на десерт – «Румяную Бетти»[11 - «Румяная Бетти» – американское название яблочного пудинга, запеканки или шарлотки в сухарях. В Англии рецепт «Бетти» был впервые опубликован в 1864 г., американцы же, перепечатав его в 1890-м, сделали определение «румяный» частью имени собственного.], которую никто не ел, кроме разве что малявок из начальной школы, которые ни шиша не смыслят, да каких-нибудь Экли, которые всё сожрут.
Хотя когда мы вышли из столовки, было вроде ничего. Снега нападало дюйма на три, и он еще сыпался, прямо как ненормальный. Красиво, как не знаю что, мы все стали кидаться снежками и вообще валять дурака. Детский сад, но всем зашибись.
У меня ни свиданки не было, ничего, поэтому мы с этим моим корефаном, Мэлом Броссаром, он еще в борцовской команде, решили прокатиться на автобусе в Эйджерстаун, зачикать по гамбургеру и, может, кинцо какое паршивое позырить. Ни ему, ни мне на жопе весь вечер сидеть не хотелось. Я спросил Мэла, не против ли он, если мы с собой прихватим Экли. Я чего спросил – Экли ж никогда и ничего по субботам не делает, только сидит весь вечер у себя и прыщи давит или чего-то. Мэл сказал, что не против, но от радости с ума не сойдет. Экли ему не очень в жилу. В общем, мы разошлись по комнатам собираться и всяко-разно, и пока я влатывался в галоши и прочие дела, покричал этому Экли, не хочет ли сходить в кино. Ему через шторки меня нормально слышно было, но сразу он все равно не ответил. Такие сразу никогда не отвечают. Потом наконец пришел – через эти самые, нафиг, шторки, встал на порожке душа и спросил, кто еще идет. Вечно ему знать надо, кто еще идет. Ей-богу, очутись он где-нибудь на необитаемом острове и спаси вы его, он бы первым делом стал спрашивать, кто на веслах, и только потом сел бы в шлюпку. Я говорю:
– Мэл Броссар.
Он говорит:
– Вот гадство… Ладно, я сейчас. – Будто одолжение сделал.
Сейчас у него – это часов пять. Пока он там копался, я подошел к окну, открыл и голыми руками слепил снежок. Хорошо из такого снега лепить. Но кидать его я никуда не кинул. Хотя собрался было. В машину через дорогу. Но передумал. Путёвая такая машина, белая. Потом я хотел его кинуть в пожарный гидрант, но он тоже был вроде такой путёвый и белый. В конце концов так я никуда и не кинул. Только закрыл окно и походил с этим снежком по комнате, а сам лепил его все туже. Потом, когда мы с Броссаром и Экли уже сели в автобус, я снежок этот все равно из рук не выпускал. А водитель открыл двери и заставил выбросить. Я ему говорю: ни в кого я этим снежком не заеду, – а он не поверил. Никогда никто не верит.
И Броссар, и Экли ту картину уже видали, поэтому мы просто взяли по паре гамбургеров и немного поиграли на пинболе, а потом вернулись на автобусе в Пенси. Не посмотрели кино – ну и фиг с ним. Там какая-то комедия с Кэри Грантом[12 - Кэри Грант (Арчибалд Александр Лич, 1904–1986) – американский киноактер, звезда Голливуда 30—50-х гг.] и всякая такая херня. Кроме того, с Броссаром и Экли я уже в кино ходил. Они оба ржут, как кони, даже когда не смешно. Мне с ними рядом противно даже сидеть.
В общагу мы вернулись всего где-то без четверти девять. Этот Броссар на бридже залипает, поэтому он стал искать по всей общаге, с кем бы сыграть. А Экли для разнообразия завис у меня в комнате. Только на ручку Стрэдлейтерова кресла садиться не стал, а разлегся у меня на кровати, прямо харей в подушку мне воткнулся и всяко-разно. И стал бубнить, монотонно так, и в прыщах своих ковыряться. Я тыщу раз ему намекал так и этак, но избавиться от него все равно не смог. Бубнит и бубнит про какую-то свою девку, которую прошлым летом вроде бы оприходовал. И до этого сто раз про нее рассказывал. Только всякий раз – по-другому. То он ей засаживает в «бьюике» своего двоюродного, то под променадом на набережной. Сплошная туфта, само собой. Он целочка такая, каких мало. Сомневаюсь, что он даже мацал кого-нибудь. В общем, пришлось мне расколоться и сказать ему, что мне надо сочинение Стрэдлейтеру писать, поэтому пусть он нафиг валит отсюда, чтоб я сосредоточился. Он в конце концов и свалил, но, как обычно, с отвалом своим не торопился. Когда он ушел, я влатался в пижаму и халат, надел этот свой кепарь и сел писать сочинение.
Вся фигня в том, что я не мог придумать ни комнаты, ни дома, ничего, чтоб наглядно описать так, как надо Стрэдлейтеру. Мне по-любому не очень в жилу описывать комнаты и дома. Поэтому я чего – я написал про бейсбольную перчатку моего братца Олли. Очень наглядный предмет. По-честному. У моего братца Олли была эта перчатка полевого игрока на правую руку. Он левша потому что. А наглядного в ней то, что на всех пальцах у нее и на кармане, и везде понаписаны стихи. Зелеными чернилами. Он их там понаписал, чтоб было чего почитать, когда стоит в поле, а битой никто не машет. Братец уже умер. У него была лейкемия, и он умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мэне. Он бы вам понравился. На два года младше меня, но котелок раз в полста лучше варил. До ужаса варил просто. Его учителя все время записки штруне писали: мол, как им приятно, что у них в классе такой пацан учится. Причем без балды. По серьезу. Но тут дело не только в том, что он в семье был самый умный. Еще он был самый нормальный – по-всякому. Никогда ни на кого не злился. Считается, что рыжие легко выходят из себя, но Олли – никогда, а он был очень рыжий. Я вам скажу, какой. Уже в десять лет я начал играть в гольф. Помню, как-то летом, мне лет двенадцать было, я только прицелился и всяко-разно, как вдруг у меня верняк: я сейчас обернусь, а там Олли. Поворачиваюсь – точно, сидит на велике за оградой: там все поле огороженное, и он сидит, ярдов сто пятьдесят от меня, смотрит, как я первый удар сделаю. Вот какой он рыжий был. Но все равно – ох какой же он был путёвый. Иногда за ужином подумает о чем-нибудь – и так ржать начинает, что со стула чуть не падает. Мне всего тринадцать было, и меня собирались отдать мозгоправу и всяко-разно, потому что я в гараже все стекла перебил. Ну и отдали бы. По-честному. Когда он умер, я ночевал в гараже и кулаком перебил все, нафиг, стекла – а просто так. Я даже хотел побить стекла в том универсале, который у нас тогда летом был, только руку себе уже сломал и вообще, потому и не смог. Дурь, конечно, это да, но я вообще не соображал, что делаю, а вы Олли не знали. Рука у меня до сих пор иногда побаливает, если дождь и всяко-разно, и кулак до конца не сжимается – в смысле, чтобы вмазать, – а так мне наплевать. В смысле, я ж все равно не буду хирургом там, или скрипачом, или еще как-то.
Ладно, в общем, про это я и написал Стрэдлейтеру сочинение. Про эту перчатку Олли. У меня она в чемодане нашлась, я ее вытащил и списал с нее стихи. Только надо было Олли имя поменять, а то доедут, что это мой братец, а не Стрэдлейтера. Не очень в жилу было его менять, но ничего другого наглядного я так и не придумал. А кроме того, писать про это было, с понтом, зашибись. Где-то около часа ушло, потому что печатать надо было на паршивой машинке Стрэдлейтера, а она у меня все время заедала. На своей я не печатал, потому что дал ее одному парню дальше по коридору.
Где-то пол-одиннадцатого, наверно, закончил. Но ни устал, ничего, поэтому еще сколько-то смотрел в окно. Снег больше не шел, только время от времени где-то машина никак не заводилась. Да еще слышно было, как этот Экли храпит. Добивало через все эти, нафиг, душевые шторки. У него чего-то с пазухами, поэтому, когда спит, дышать ему не в жилу. С этим парнем вообще все не так. Пазухи, прыщи, зубы паршивые, изо рта воняет, ногти захезанные. Даже как-то жалко падлу эту долбанутую.
6
Бывает, какую-то фигню вспомнить трудно. Я вот думаю, как Стрэдлейтер вернулся со своей свиданки, которая с Джейн. В смысле, я точно не помню, чего делал, когда услышал эти его дурацкие, нафиг, шаги по коридору. Наверно, еще в окно глядел, но честно – я не помню. Потому что, нафиг, колотился. Если меня насчет чего-то по серьезу колотить начинает, я не шибаюсь просто так. Если меня колотит, мне даже отлить хочется. Только я не отливаю. Меня слишком колотит. И я не хочу отвлекаться. Если б вы знали Стрэдлейтера, вас бы тоже заколотило. Я с этим гадом пару раз на спаренные свиданки ходил, я в курсе. Он беспринципный. По-честному.
В общем, в коридоре там сплошь линолеум и всяко-разно, поэтому слышно его было, нафиг, до самой комнаты. Я даже не помню, где сидел, когда он зашел, – возле окна, у себя в кресле или у него. Честно не помню.
Он заходит и давай гундеть, какая на улице холодрыга. Потом говорит:
– А где, нахер, все? Тут, нафиг, как в морге.
Я даже отвечать ему не стал. Если он такой, нафиг, дурила и не соображает, что раз у нас суббота и вечер, все либо шляются где-то, либо дрыхнут, либо домой на выходные отвалили, – чего ради мне морочиться и его просвещать? Он стал раздеваться. Ни одного, нафиг, слова про Джейн не сказал. Ни единого. Я тоже. Только смотрю на него. Он мне хоть спасибо сказал за пидж. Определил его на вешалку и сунул в шкаф.
А потом, когда галстук развязывал, спрашивает, написал ли я ему это, нафиг, сочинение. Я говорю: у тебя на кровати, нафиг. Он пошел и стал читать, пока рубашку расстегивал. Стоит, читает и себя вроде как по голой груди и животу поглаживает, а рожа при этом дурацкая. Он себя вечно по груди и животу гладит. Прямо сохнет по себе.
И тут вдруг мне говорит:
– Холден, язви тебя. Это же, нафиг, про бейсбольную перчатку.
– И чего? – говорю я. Холодно так говорю, как не знаю что.
– В смысле – и чего? Я ж тебе сказал, надо про комнату, нафиг, про дом или еще как-то.
– Ты сказал, что надо наглядно. Какая, нафиг, разница, если про бейсбольную перчатку?
– Пошел ты к черту. – Он разозлился, как не знаю что. По-честному рассвирепел. – Ты вообще все через жопу делаешь. – Посмотрел на меня: – И чего удивляться, если ты тут, нафиг, провалился, – говорит. – Ты же, нафиг, ни шиша не делаешь, как надо. Без балды. Ни шиша, нафиг.
– Ладно, тогда давай его сюда, – говорю. Встал и выдернул сочинение прямо, нафиг, у него из руки. И порвал.
– Ты это на хера? – спрашивает он.
Я ему даже не ответил. Только клочки в мусорку выкинул. Потом лег на свою кровать, и мы с ним долго ничего не говорили. Он весь разделся, до трусов, а я лежал – а потом закурил. В общаге курить нельзя, но если ночью, когда все дрыхнут, или нет никого и никто дым не нашмыгает, то можно. Кроме того, мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Его с тормозов просто сносит, если правила нарушаешь. Он-то в общаге никогда не курил. Только я.
И он по-прежнему ни одного слова про Джейн не сказал. Поэтому я в конце концов говорю:
– Ты, нафиг, что-то поздновато вернулся, если она только до полдесятого отпрашивалась. Это она, выходит, из-за тебя опоздала?
Он сидел у себя на кровати как раз, стриг, нафиг, ногти на ногах, когда я у него это спросил.
– На пару минут, – говорит. – Кому вообще в голову придет в субботу отпрашиваться только до полдесятого?
Ёксель-моксель, как же я его ненавидел.
– В Нью-Йорк смотались? – спрашиваю.
– Чокнулся? Как тут, нахер, смотаешься в Нью-Йорк, если она до полдесятого отпросилась?
И он положил их в карман – ко мне в карман.
Я вдруг – для разнообразия – передвинул кепарь вперед козырьком. Мне вдруг ни с того ни с сего стало как-то дергано. Я ж вообще дерганый.
– Слышь, а куда вы с ней на свиданку двигаете? – спрашиваю. – Ты уже прикинул?
– Фиг знает. В Нью-Йорк, если время будет. Она только до полдесятого отпросилась, язви ее.
Фигово он это сказал, поэтому я ему:
– Это она потому, что просто не знала, какой ты симпотный очаровашка, гад. А если б знала, отпросилась бы до полдесятого утра.
– Правильно, нафиг, – говорит Стрэдлейтер. Его так просто не допечь. Слишком самонадеянный. – Ладно, без шуток. Напиши мне сочинение, – говорит. Он уже и пальто надел, совсем к выходу намылился. – Сильно не напрягайся, просто чтоб наглядное было, как не знаю что. Лады?
Я ему не ответил. Не хотелось. Я только сказал:
– Спроси, она так же дамок на задней линии держит?
– Лады, – говорит Стрэдлейтер, но я знал – ни шиша он не спросит. – А ты не напрягайся. – И он с грохотом отвалил нафиг.
После его ухода я где-то с полчаса посидел. То есть просто сидел в кресле, ни фига не делал. Думал про Джейн, как у Стрэдлейтера с ней свиданка и всяко-разно. Так дергался, что чуть не спятил. Я уже говорил вам, какой Стрэдлейтер озабоченный гад.
Тут вдруг Экли снова в комнату врывается через эти, нафиг, шторки душевые, как обычно. Я в кои-то свои дурацкие веки, по-честному, рад был его видеть. Хоть отвлек меня от этой бодяги всей.
Он мотылялся по комнате где-то до ужина, трындел про всех в Пенси, кого он терпеть не может, да еще неслабый прыщ на подбородке выдавливал. Даже платок не достал. Думаю, у этого гада и платков-то не водится, если вам правду сказать. Я у него их по-любому ни разу не видел.
5
В субботу по вечерам в Пенси кормили одним и тем же. Как бы кипиш страшный, потому что давали бифштекс. На тыщу спорим, они так делали потому, что у многих парней штрики по воскресеньям в школу приезжают, и этот Тёрмер, наверно, прикинул: всякая штруня своего дорогушу станет допрашивать, что это он кушал вчера на ужин, и он ей скажет: «Бифштекс». Куда деваться. Видали б вы эти бифштексы. Такие сухие козявки, даже не разрежешь. По таким вечерам к бифштексам всегда давали комки пюре, а на десерт – «Румяную Бетти»[11 - «Румяная Бетти» – американское название яблочного пудинга, запеканки или шарлотки в сухарях. В Англии рецепт «Бетти» был впервые опубликован в 1864 г., американцы же, перепечатав его в 1890-м, сделали определение «румяный» частью имени собственного.], которую никто не ел, кроме разве что малявок из начальной школы, которые ни шиша не смыслят, да каких-нибудь Экли, которые всё сожрут.
Хотя когда мы вышли из столовки, было вроде ничего. Снега нападало дюйма на три, и он еще сыпался, прямо как ненормальный. Красиво, как не знаю что, мы все стали кидаться снежками и вообще валять дурака. Детский сад, но всем зашибись.
У меня ни свиданки не было, ничего, поэтому мы с этим моим корефаном, Мэлом Броссаром, он еще в борцовской команде, решили прокатиться на автобусе в Эйджерстаун, зачикать по гамбургеру и, может, кинцо какое паршивое позырить. Ни ему, ни мне на жопе весь вечер сидеть не хотелось. Я спросил Мэла, не против ли он, если мы с собой прихватим Экли. Я чего спросил – Экли ж никогда и ничего по субботам не делает, только сидит весь вечер у себя и прыщи давит или чего-то. Мэл сказал, что не против, но от радости с ума не сойдет. Экли ему не очень в жилу. В общем, мы разошлись по комнатам собираться и всяко-разно, и пока я влатывался в галоши и прочие дела, покричал этому Экли, не хочет ли сходить в кино. Ему через шторки меня нормально слышно было, но сразу он все равно не ответил. Такие сразу никогда не отвечают. Потом наконец пришел – через эти самые, нафиг, шторки, встал на порожке душа и спросил, кто еще идет. Вечно ему знать надо, кто еще идет. Ей-богу, очутись он где-нибудь на необитаемом острове и спаси вы его, он бы первым делом стал спрашивать, кто на веслах, и только потом сел бы в шлюпку. Я говорю:
– Мэл Броссар.
Он говорит:
– Вот гадство… Ладно, я сейчас. – Будто одолжение сделал.
Сейчас у него – это часов пять. Пока он там копался, я подошел к окну, открыл и голыми руками слепил снежок. Хорошо из такого снега лепить. Но кидать его я никуда не кинул. Хотя собрался было. В машину через дорогу. Но передумал. Путёвая такая машина, белая. Потом я хотел его кинуть в пожарный гидрант, но он тоже был вроде такой путёвый и белый. В конце концов так я никуда и не кинул. Только закрыл окно и походил с этим снежком по комнате, а сам лепил его все туже. Потом, когда мы с Броссаром и Экли уже сели в автобус, я снежок этот все равно из рук не выпускал. А водитель открыл двери и заставил выбросить. Я ему говорю: ни в кого я этим снежком не заеду, – а он не поверил. Никогда никто не верит.
И Броссар, и Экли ту картину уже видали, поэтому мы просто взяли по паре гамбургеров и немного поиграли на пинболе, а потом вернулись на автобусе в Пенси. Не посмотрели кино – ну и фиг с ним. Там какая-то комедия с Кэри Грантом[12 - Кэри Грант (Арчибалд Александр Лич, 1904–1986) – американский киноактер, звезда Голливуда 30—50-х гг.] и всякая такая херня. Кроме того, с Броссаром и Экли я уже в кино ходил. Они оба ржут, как кони, даже когда не смешно. Мне с ними рядом противно даже сидеть.
В общагу мы вернулись всего где-то без четверти девять. Этот Броссар на бридже залипает, поэтому он стал искать по всей общаге, с кем бы сыграть. А Экли для разнообразия завис у меня в комнате. Только на ручку Стрэдлейтерова кресла садиться не стал, а разлегся у меня на кровати, прямо харей в подушку мне воткнулся и всяко-разно. И стал бубнить, монотонно так, и в прыщах своих ковыряться. Я тыщу раз ему намекал так и этак, но избавиться от него все равно не смог. Бубнит и бубнит про какую-то свою девку, которую прошлым летом вроде бы оприходовал. И до этого сто раз про нее рассказывал. Только всякий раз – по-другому. То он ей засаживает в «бьюике» своего двоюродного, то под променадом на набережной. Сплошная туфта, само собой. Он целочка такая, каких мало. Сомневаюсь, что он даже мацал кого-нибудь. В общем, пришлось мне расколоться и сказать ему, что мне надо сочинение Стрэдлейтеру писать, поэтому пусть он нафиг валит отсюда, чтоб я сосредоточился. Он в конце концов и свалил, но, как обычно, с отвалом своим не торопился. Когда он ушел, я влатался в пижаму и халат, надел этот свой кепарь и сел писать сочинение.
Вся фигня в том, что я не мог придумать ни комнаты, ни дома, ничего, чтоб наглядно описать так, как надо Стрэдлейтеру. Мне по-любому не очень в жилу описывать комнаты и дома. Поэтому я чего – я написал про бейсбольную перчатку моего братца Олли. Очень наглядный предмет. По-честному. У моего братца Олли была эта перчатка полевого игрока на правую руку. Он левша потому что. А наглядного в ней то, что на всех пальцах у нее и на кармане, и везде понаписаны стихи. Зелеными чернилами. Он их там понаписал, чтоб было чего почитать, когда стоит в поле, а битой никто не машет. Братец уже умер. У него была лейкемия, и он умер 18 июля 1946 года, когда мы жили в Мэне. Он бы вам понравился. На два года младше меня, но котелок раз в полста лучше варил. До ужаса варил просто. Его учителя все время записки штруне писали: мол, как им приятно, что у них в классе такой пацан учится. Причем без балды. По серьезу. Но тут дело не только в том, что он в семье был самый умный. Еще он был самый нормальный – по-всякому. Никогда ни на кого не злился. Считается, что рыжие легко выходят из себя, но Олли – никогда, а он был очень рыжий. Я вам скажу, какой. Уже в десять лет я начал играть в гольф. Помню, как-то летом, мне лет двенадцать было, я только прицелился и всяко-разно, как вдруг у меня верняк: я сейчас обернусь, а там Олли. Поворачиваюсь – точно, сидит на велике за оградой: там все поле огороженное, и он сидит, ярдов сто пятьдесят от меня, смотрит, как я первый удар сделаю. Вот какой он рыжий был. Но все равно – ох какой же он был путёвый. Иногда за ужином подумает о чем-нибудь – и так ржать начинает, что со стула чуть не падает. Мне всего тринадцать было, и меня собирались отдать мозгоправу и всяко-разно, потому что я в гараже все стекла перебил. Ну и отдали бы. По-честному. Когда он умер, я ночевал в гараже и кулаком перебил все, нафиг, стекла – а просто так. Я даже хотел побить стекла в том универсале, который у нас тогда летом был, только руку себе уже сломал и вообще, потому и не смог. Дурь, конечно, это да, но я вообще не соображал, что делаю, а вы Олли не знали. Рука у меня до сих пор иногда побаливает, если дождь и всяко-разно, и кулак до конца не сжимается – в смысле, чтобы вмазать, – а так мне наплевать. В смысле, я ж все равно не буду хирургом там, или скрипачом, или еще как-то.
Ладно, в общем, про это я и написал Стрэдлейтеру сочинение. Про эту перчатку Олли. У меня она в чемодане нашлась, я ее вытащил и списал с нее стихи. Только надо было Олли имя поменять, а то доедут, что это мой братец, а не Стрэдлейтера. Не очень в жилу было его менять, но ничего другого наглядного я так и не придумал. А кроме того, писать про это было, с понтом, зашибись. Где-то около часа ушло, потому что печатать надо было на паршивой машинке Стрэдлейтера, а она у меня все время заедала. На своей я не печатал, потому что дал ее одному парню дальше по коридору.
Где-то пол-одиннадцатого, наверно, закончил. Но ни устал, ничего, поэтому еще сколько-то смотрел в окно. Снег больше не шел, только время от времени где-то машина никак не заводилась. Да еще слышно было, как этот Экли храпит. Добивало через все эти, нафиг, душевые шторки. У него чего-то с пазухами, поэтому, когда спит, дышать ему не в жилу. С этим парнем вообще все не так. Пазухи, прыщи, зубы паршивые, изо рта воняет, ногти захезанные. Даже как-то жалко падлу эту долбанутую.
6
Бывает, какую-то фигню вспомнить трудно. Я вот думаю, как Стрэдлейтер вернулся со своей свиданки, которая с Джейн. В смысле, я точно не помню, чего делал, когда услышал эти его дурацкие, нафиг, шаги по коридору. Наверно, еще в окно глядел, но честно – я не помню. Потому что, нафиг, колотился. Если меня насчет чего-то по серьезу колотить начинает, я не шибаюсь просто так. Если меня колотит, мне даже отлить хочется. Только я не отливаю. Меня слишком колотит. И я не хочу отвлекаться. Если б вы знали Стрэдлейтера, вас бы тоже заколотило. Я с этим гадом пару раз на спаренные свиданки ходил, я в курсе. Он беспринципный. По-честному.
В общем, в коридоре там сплошь линолеум и всяко-разно, поэтому слышно его было, нафиг, до самой комнаты. Я даже не помню, где сидел, когда он зашел, – возле окна, у себя в кресле или у него. Честно не помню.
Он заходит и давай гундеть, какая на улице холодрыга. Потом говорит:
– А где, нахер, все? Тут, нафиг, как в морге.
Я даже отвечать ему не стал. Если он такой, нафиг, дурила и не соображает, что раз у нас суббота и вечер, все либо шляются где-то, либо дрыхнут, либо домой на выходные отвалили, – чего ради мне морочиться и его просвещать? Он стал раздеваться. Ни одного, нафиг, слова про Джейн не сказал. Ни единого. Я тоже. Только смотрю на него. Он мне хоть спасибо сказал за пидж. Определил его на вешалку и сунул в шкаф.
А потом, когда галстук развязывал, спрашивает, написал ли я ему это, нафиг, сочинение. Я говорю: у тебя на кровати, нафиг. Он пошел и стал читать, пока рубашку расстегивал. Стоит, читает и себя вроде как по голой груди и животу поглаживает, а рожа при этом дурацкая. Он себя вечно по груди и животу гладит. Прямо сохнет по себе.
И тут вдруг мне говорит:
– Холден, язви тебя. Это же, нафиг, про бейсбольную перчатку.
– И чего? – говорю я. Холодно так говорю, как не знаю что.
– В смысле – и чего? Я ж тебе сказал, надо про комнату, нафиг, про дом или еще как-то.
– Ты сказал, что надо наглядно. Какая, нафиг, разница, если про бейсбольную перчатку?
– Пошел ты к черту. – Он разозлился, как не знаю что. По-честному рассвирепел. – Ты вообще все через жопу делаешь. – Посмотрел на меня: – И чего удивляться, если ты тут, нафиг, провалился, – говорит. – Ты же, нафиг, ни шиша не делаешь, как надо. Без балды. Ни шиша, нафиг.
– Ладно, тогда давай его сюда, – говорю. Встал и выдернул сочинение прямо, нафиг, у него из руки. И порвал.
– Ты это на хера? – спрашивает он.
Я ему даже не ответил. Только клочки в мусорку выкинул. Потом лег на свою кровать, и мы с ним долго ничего не говорили. Он весь разделся, до трусов, а я лежал – а потом закурил. В общаге курить нельзя, но если ночью, когда все дрыхнут, или нет никого и никто дым не нашмыгает, то можно. Кроме того, мне хотелось позлить Стрэдлейтера. Его с тормозов просто сносит, если правила нарушаешь. Он-то в общаге никогда не курил. Только я.
И он по-прежнему ни одного слова про Джейн не сказал. Поэтому я в конце концов говорю:
– Ты, нафиг, что-то поздновато вернулся, если она только до полдесятого отпрашивалась. Это она, выходит, из-за тебя опоздала?
Он сидел у себя на кровати как раз, стриг, нафиг, ногти на ногах, когда я у него это спросил.
– На пару минут, – говорит. – Кому вообще в голову придет в субботу отпрашиваться только до полдесятого?
Ёксель-моксель, как же я его ненавидел.
– В Нью-Йорк смотались? – спрашиваю.
– Чокнулся? Как тут, нахер, смотаешься в Нью-Йорк, если она до полдесятого отпросилась?