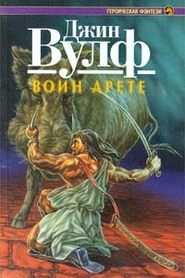По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пятая голова Цербера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дэвид поднимает взгляд от книги, его синие глаза светятся презрением к нам обоим.
– Если бы вы спросили их, они бы ответили вам, что? для них действительно важно: их магия, их религия, песни, которые они пели, и традиции их народа. Они убивали своих жертвенных животных осколками морских раковин, острых, как бритвенные лезвия, и не позволяли мужчинам иметь детей, пока они не выдержат испытание огнем, калечившее их на всю жизнь. Они жили в единении с лесными деревьями и топили младенцев, чтобы почтить духов своих рек. Вот что имело значение.
У Мистера Миллиона не было шеи, потому кивнуло только лицо, отображенное на его экране.
– Теперь мы обсудим человечность этих аборигенов. Дэвид начинает и отрицает.
(Я пинаю его, но он поджал свои крепкие веснушчатые ноги или спрятал их за ножки стульев: это жульничество.)
– Человечность, – говорит он самым убедительным голосом, – в истории человека ведет начало от того, что мы условно можем именовать Адамом, то есть изначального представителя такого земного рода; а если вы двое этого не понимаете, вы идиоты.
Я жду продолжения, но он закончил. Чтобы дать себе время подумать, я говорю:
– Мистер Миллион, нечестно позволять ему обзываться во время диспута. Скажите ему, что тогда это не спор, а свара, верно?
Мистер Миллион говорит:
– Не затрагивай личности, Дэвид. (Дэвид уже рассматривает картинки в главе, посвященной стычке циклопа Полифема с Одиссеем, и явно надеется, что я буду продолжать долго. Я почувствовал вызов себе и решил дать бой.)
Я начинаю:
– Аргумент, что вести происхождение человека нужно от этого земного вида, не является с очевидностью верным и не дает простора для дальнейших размышлений, поскольку существует возможность, что аборигены Сент-Анн были потомками некоей ранней волны человеческой экспансии – той, что, вероятно, старше гомеровских греков.
Мистер Миллион мягко замечает:
– На твоем месте я обратился бы к более достоверным аргументам.
Тем не менее я затрагиваю этрусков, атлантов, а также вдохновенно рассказываю об упорстве и экспансионистских помыслах гипотетической технологической культуры, населявшей континент Гондвану. Когда я заканчиваю, Мистер Миллион говорит:
– Теперь поменяйтесь: Дэвид утверждает и не повторяется.
Мой брат, конечно же, смотрит в книгу, вместо того чтобы слушать наставника, и я воодушевленно пинаю его, ожидая замешательства, но он говорит:
– Аборигены относятся к человеческому роду, потому что они все мертвы.
– Объясни.
– Будь они живы, было бы опасно позволить им присоединиться к нам, потому что они начали бы требовать всяких товаров и привилегий для себя; с мертвыми иметь дело куда интереснее, поэтому первопоселенцы истребили их всех.
Ну и так далее. Солнечный блик путешествует через красную с черными прожилками столешницу – как путешествовал уже сотни раз. Мы выйдем через одну из боковых дверей и пройдем по заброшенной площадке между двух корпусов библиотеки. Там валяются пустые бутылки и разнообразные клочья бумаги, занесенные ветром, и однажды мы обнаружили там мертвеца в ярких лохмотьях, через ноги которого мы, мальчишки, взялись восторженно прыгать, пока Мистер Миллион молча не объехал его. Когда мы выйдем из двора на узкую улочку, горны крепостного гарнизона (поющие теперь так далеко) позовут солдат на вечернюю мессу. На рю д’Астико фонарщик уже возьмется за дело, а лавки опустят железные шторы. Тротуары, волшебным образом очистившиеся от заваленных хламом торговых лотков, кажутся широкими и голыми.
Наша собственная Салтимбанк-стрит изменится, когда прибудут первые клиенты. Седоголовые добродушные мужчины приводят юношей и мальчиков, красивых и мускулистых, но чуть перекормленных; молодые люди отпускают несмелые шуточки и улыбаются превосходными белыми зубами. Эти всегда являются первыми, и пока я не стал чуть старше, то всегда задумывался, почему они приходят так рано: потому ли, что седовласые хотят и получить удовольствие, и успеть выспаться; или потому, что они знают, что юноши, которых они приводят в заведение моего отца, после полуночи будут сонными и раздражительными, как не уложенные вовремя дети. Мистер Миллион не хотел, чтобы мы пользовались садовыми аллеями после заката, поэтому нам приходилось входить через парадное вместе с седовласыми, их племянниками и сыновьями. Садик размером не больше маленькой комнатушки примыкал к лишенному окон фронтону дома. В нем имелись: могилообразные терновые клумбы; маленький фонтан, чьи струи падали на непрестанно звеневшие стеклянные палочки, нуждавшиеся в постоянной защите от бродячих уличных мальчишек; железная трехголовая собака, чьи лапы давно скрылись под ковром мха. Думаю, что из-за этой статуи наш дом и получил свое имя – La Maison du Chien, хотя это могло иметь отношение и к нашему родовому имени [4 - Дом пса (франц.). Рассказчик опять намекает, что его фамилия, вполне вероятно, – Вулф. Атмосфера дома и стиль, избранный им для автобиографии (в частности, первая фраза книги), явственно отсылают к «По направлению к Свану» Марселя Пруста, протагонист которого также зовется тем же именем, что и автор; Пруст был известен симпатией к гомосексуалам и приверженцам сексуальных эскапад, субсидировал бордель.]. Три головы были гладкими и могучими, с заостренными мордами и ушами. Первая рычала, средняя созерцала открывавшийся ей мирок сада и кусочек улицы с вежливым, терпеливым интересом. Третья, та, что ближе к кирпичной дорожке, ведущей к парадным дверям, заговорщически ухмылялась – я не могу подобрать более подходящих слов; и в обычае у клиентов моего отца было похлопывать ее между ушами, когда они выходили из дома. Пальцы гостей отполировали межушие третьей головы до гладкости черного стекла.
Таков был мой мир в течение первых семи с половиной лет моей жизни. Почти все мои дни проходили в маленькой классной комнатке, где властвовал Мистер Миллион, а вечера и ночи – в безмолвной спальне, отведенной для игр и шуточных потасовок. Иногда, как уже сказано, я посещал библиотеку, а еще реже бывал в каких-нибудь иных местах. Иногда я смотрел сквозь раздвинутые ветви бругмансии, как в нижнем дворике прогуливаются девушки в сопровождении своих клиентов, или же слушал их разговоры, доносившиеся из сада на крыше, однако все это меня не слишком занимало. Мне было известно, что распоряжавшийся всем в доме высокий человек с узким, похожим на мотыгу лицом, к которому девушки и служанки обращались «мэтр», – мой отец. Я также знал, что где-то существует одна женщина, очень странная, вселявшая в слуг ужас, по имени «мадам», однако она не приходилась матерью ни мне, ни Дэвиду, а также не была женой моего отца.
Вся эта жизнь, все мои мальчишеские годы, то, что можно было назвать детством, окончилась в один ничем не примечательный вечер, когда Дэвид и я отправились спать. Кто-то дернул меня за плечо и окликнул, но не Мистер Миллион, а другой человек, сморщенный горбун в потрепанной красной ливрее.
– Он хочет тебя видеть, – сообщил посланник, – вставай.
Я встал, и он увидел, что на мне нет ничего, кроме ночной пижамы. Это явно не предусматривалось данным ему заданием, и несколько мгновений я простоял, щурясь и позевывая, пока он колебался, как поступить.
– Оденься и причешись, – сказал он наконец.
Я повиновался, надев черные бархатные штанишки, в которых проходил весь день, а также (не знаю, чем было подсказано такое решение) новую чистую рубашку. Комната, куда он привел меня по пустынным коридорам, где и след простыл самых поздних клиентов, а также через иные залы и переходы, грязные, пыльные, заваленные крысиным пометом – туда ни один посторонний не допускался, – была та самая, на которую я наткнулся когда-то, с высокой резной дверью, перед которой мне читала мораль женщина в розовом. Я никогда не был внутри, но вот мой проводник постучал в дверь, и она отворилась раньше, чем я успел осознать происходящее.
Мой отец закрыл дверь, оставив меня стоять, отошел подальше и опустился в огромное кресло; на нем была та одежда, в которой я чаще всего его видел – красный халат и черный шарф, длинные густые черные волосы были зачесаны назад. Он смотрел на меня. Я помню, что мои губы дрожали – так сильно я сдерживался, чтобы не заплакать.
– Что же, вот ты и пришел, – промолвил он наконец, когда так прошло уже некоторое время, – и как мне называть тебя?
Я назвал ему свое имя, но он покачал головой:
– Нет, это не подходит. Когда ты здесь, со мной, у тебя должно быть свое особое имя, тайное. Выбери его сам, если у тебя есть такое желание.
Я молчал, потому что мне казалось совершенно непостижимым, как можно обращаться ко мне иначе, нежели при помощи этих двух слов, составлявших мое имя и бывших у меня предметом неизъяснимого, почти мистического поклонения.
– Хорошо, я сам выберу его, – сказал мой отец. – Ты будешь зваться Номер Пять. Подойди ко мне, Номер Пять.
Я так и сделал, и он произнес:
– Теперь мы сыграем в одну игру. Я буду показывать тебе картинки, а ты, все то время, пока будешь смотреть на них, должен о чем-то говорить. Рассказывать о том, что ты видишь на картинках. Если ты говоришь, ты выиграл, а если ты прервешься даже на секунду, то ты проиграл. Понятно?
Я сказал, что да.
– Отлично. Я знаю, что ты умный мальчик. Думаю, уместно сейчас сказать тебе, что Мистер Миллион присылает мне все записи разговоров с тобой и все отчеты об уроках и экзаменах. Ты догадывался об этом? Нет, лучше так: ты когда-нибудь задумывался, что он делает с этими записями?
– Я полагал, что он их выбрасывает, – ответил я, и мой отец наклонился ко мне, пока я говорил, что мне тогда весьма польстило.
– Нет. Они все собраны у меня тут, – он нажал какую-то кнопку, – и теперь помни, что ты должен все время говорить.
Но в первые несколько мгновений я был слишком удивлен, чтобы говорить. Словно по мановению волшебной палочки, в комнате возник мальчик намного младше меня, и разрисованный деревянный солдатик почти с меня ростом. Я коснулся их и обнаружил, что они бесплотны, точно воздух.
– Ну скажи что-нибудь, – напомнил отец, – что ты думаешь об этом, Номер Пять?
Конечно, я в первую очередь подумал о солдатике, и так же поступил малыш на картинке, выглядевший теперь годика на три. Он проковылял сквозь мою руку, как призрак, и попытался свалить фигурку. Я понял, что это такое. Это были голограммы – трехмерные изображения, образуемые интерференционным перекрыванием двух световых пучков. Все рассказы о них в моем учебнике физики казались мне крайне скучными, поскольку иллюстрировались плоскими рисунками шахматных фигур; теперь же прошло некоторое время, прежде чем я отождествил эти шахматные фигурки с привидениями, гуляющими в полночь по отцовской библиотеке. Мой отец терпеливо повторял:
– Говори. Скажи что-то. Опиши, что ты чувствуешь. О чем сейчас думает малыш?
– Ну, мальчику просто нравится этот большой солдатик, и он хочет сбить его на пол, если получится, потому что он понимает, что это всего лишь игрушка, но он не может смириться, что тот выше его… – Я проговорил очень долго, может быть, несколько часов. Солдата сменили игрушечные пони, кролик, тарелка супа с крекерами; но центральный персонаж каждой из сценок оставался неизменным, это был трехлетний мальчик. Когда горбун в красной ливрее явился снова, чтобы отвести меня в постель, я устал так, что горло заболело, а голос совсем охрип. Той ночью я видел сны, в которых маленький мальчик занимался то одним делом, то другим, и в этих видениях его личность странным образом наложилась на меня с моим отцом, а иногда я даже представлялся самому себе третьим наблюдателем, изучающим с некоторого расстояния нас обоих: наблюдаемого и того, кто его наблюдает.
Следующей ночью я заснул почти сразу же, как Мистер Миллион позволил нам идти в спальню, и успел лишь мысленно поздравить себя с этим. Но вскоре явился горбун, чтобы разбудить Дэвида. Я проснулся, но не подал виду, поскольку мне вдруг пришло в голову, что в противном случае он может забрать и меня; в те минуты на грани сна и бодрствования это казалось вполне возможным. Я проследил, как мой брат одевается и наскоро ерошит свои всклокоченные волосы в подобие прически. Когда он вернулся, я спал уже по-настоящему и не смог узнать, каково пришлось ему, пока Мистер Миллион не оставил нас, по своему обыкновению, в одиночестве на время завтрака.
Я пересказал Дэвиду свои впечатления, но то, что он поведал мне, было просто зеркальным отображением моего собственного вечера. Ему тоже показали голограммы, причем, по-видимому, те же самые: деревянный солдатик, пони. Его тоже заставляли говорить без перерыва, как это часто делал Мистер Миллион во время учебных диспутов и устных опросов. Но когда я поинтересовался, какое тайное имя выбрали для него, проявилось и несомненное отличие наших собеседований.
Он уставился на меня, не донеся до рта кусок торта. Я повторил вопрос:
– Каким именем он звал тебя, когда вы разговаривали?
– Он звал меня Дэвид. А ты думал как?
– Если бы вы спросили их, они бы ответили вам, что? для них действительно важно: их магия, их религия, песни, которые они пели, и традиции их народа. Они убивали своих жертвенных животных осколками морских раковин, острых, как бритвенные лезвия, и не позволяли мужчинам иметь детей, пока они не выдержат испытание огнем, калечившее их на всю жизнь. Они жили в единении с лесными деревьями и топили младенцев, чтобы почтить духов своих рек. Вот что имело значение.
У Мистера Миллиона не было шеи, потому кивнуло только лицо, отображенное на его экране.
– Теперь мы обсудим человечность этих аборигенов. Дэвид начинает и отрицает.
(Я пинаю его, но он поджал свои крепкие веснушчатые ноги или спрятал их за ножки стульев: это жульничество.)
– Человечность, – говорит он самым убедительным голосом, – в истории человека ведет начало от того, что мы условно можем именовать Адамом, то есть изначального представителя такого земного рода; а если вы двое этого не понимаете, вы идиоты.
Я жду продолжения, но он закончил. Чтобы дать себе время подумать, я говорю:
– Мистер Миллион, нечестно позволять ему обзываться во время диспута. Скажите ему, что тогда это не спор, а свара, верно?
Мистер Миллион говорит:
– Не затрагивай личности, Дэвид. (Дэвид уже рассматривает картинки в главе, посвященной стычке циклопа Полифема с Одиссеем, и явно надеется, что я буду продолжать долго. Я почувствовал вызов себе и решил дать бой.)
Я начинаю:
– Аргумент, что вести происхождение человека нужно от этого земного вида, не является с очевидностью верным и не дает простора для дальнейших размышлений, поскольку существует возможность, что аборигены Сент-Анн были потомками некоей ранней волны человеческой экспансии – той, что, вероятно, старше гомеровских греков.
Мистер Миллион мягко замечает:
– На твоем месте я обратился бы к более достоверным аргументам.
Тем не менее я затрагиваю этрусков, атлантов, а также вдохновенно рассказываю об упорстве и экспансионистских помыслах гипотетической технологической культуры, населявшей континент Гондвану. Когда я заканчиваю, Мистер Миллион говорит:
– Теперь поменяйтесь: Дэвид утверждает и не повторяется.
Мой брат, конечно же, смотрит в книгу, вместо того чтобы слушать наставника, и я воодушевленно пинаю его, ожидая замешательства, но он говорит:
– Аборигены относятся к человеческому роду, потому что они все мертвы.
– Объясни.
– Будь они живы, было бы опасно позволить им присоединиться к нам, потому что они начали бы требовать всяких товаров и привилегий для себя; с мертвыми иметь дело куда интереснее, поэтому первопоселенцы истребили их всех.
Ну и так далее. Солнечный блик путешествует через красную с черными прожилками столешницу – как путешествовал уже сотни раз. Мы выйдем через одну из боковых дверей и пройдем по заброшенной площадке между двух корпусов библиотеки. Там валяются пустые бутылки и разнообразные клочья бумаги, занесенные ветром, и однажды мы обнаружили там мертвеца в ярких лохмотьях, через ноги которого мы, мальчишки, взялись восторженно прыгать, пока Мистер Миллион молча не объехал его. Когда мы выйдем из двора на узкую улочку, горны крепостного гарнизона (поющие теперь так далеко) позовут солдат на вечернюю мессу. На рю д’Астико фонарщик уже возьмется за дело, а лавки опустят железные шторы. Тротуары, волшебным образом очистившиеся от заваленных хламом торговых лотков, кажутся широкими и голыми.
Наша собственная Салтимбанк-стрит изменится, когда прибудут первые клиенты. Седоголовые добродушные мужчины приводят юношей и мальчиков, красивых и мускулистых, но чуть перекормленных; молодые люди отпускают несмелые шуточки и улыбаются превосходными белыми зубами. Эти всегда являются первыми, и пока я не стал чуть старше, то всегда задумывался, почему они приходят так рано: потому ли, что седовласые хотят и получить удовольствие, и успеть выспаться; или потому, что они знают, что юноши, которых они приводят в заведение моего отца, после полуночи будут сонными и раздражительными, как не уложенные вовремя дети. Мистер Миллион не хотел, чтобы мы пользовались садовыми аллеями после заката, поэтому нам приходилось входить через парадное вместе с седовласыми, их племянниками и сыновьями. Садик размером не больше маленькой комнатушки примыкал к лишенному окон фронтону дома. В нем имелись: могилообразные терновые клумбы; маленький фонтан, чьи струи падали на непрестанно звеневшие стеклянные палочки, нуждавшиеся в постоянной защите от бродячих уличных мальчишек; железная трехголовая собака, чьи лапы давно скрылись под ковром мха. Думаю, что из-за этой статуи наш дом и получил свое имя – La Maison du Chien, хотя это могло иметь отношение и к нашему родовому имени [4 - Дом пса (франц.). Рассказчик опять намекает, что его фамилия, вполне вероятно, – Вулф. Атмосфера дома и стиль, избранный им для автобиографии (в частности, первая фраза книги), явственно отсылают к «По направлению к Свану» Марселя Пруста, протагонист которого также зовется тем же именем, что и автор; Пруст был известен симпатией к гомосексуалам и приверженцам сексуальных эскапад, субсидировал бордель.]. Три головы были гладкими и могучими, с заостренными мордами и ушами. Первая рычала, средняя созерцала открывавшийся ей мирок сада и кусочек улицы с вежливым, терпеливым интересом. Третья, та, что ближе к кирпичной дорожке, ведущей к парадным дверям, заговорщически ухмылялась – я не могу подобрать более подходящих слов; и в обычае у клиентов моего отца было похлопывать ее между ушами, когда они выходили из дома. Пальцы гостей отполировали межушие третьей головы до гладкости черного стекла.
Таков был мой мир в течение первых семи с половиной лет моей жизни. Почти все мои дни проходили в маленькой классной комнатке, где властвовал Мистер Миллион, а вечера и ночи – в безмолвной спальне, отведенной для игр и шуточных потасовок. Иногда, как уже сказано, я посещал библиотеку, а еще реже бывал в каких-нибудь иных местах. Иногда я смотрел сквозь раздвинутые ветви бругмансии, как в нижнем дворике прогуливаются девушки в сопровождении своих клиентов, или же слушал их разговоры, доносившиеся из сада на крыше, однако все это меня не слишком занимало. Мне было известно, что распоряжавшийся всем в доме высокий человек с узким, похожим на мотыгу лицом, к которому девушки и служанки обращались «мэтр», – мой отец. Я также знал, что где-то существует одна женщина, очень странная, вселявшая в слуг ужас, по имени «мадам», однако она не приходилась матерью ни мне, ни Дэвиду, а также не была женой моего отца.
Вся эта жизнь, все мои мальчишеские годы, то, что можно было назвать детством, окончилась в один ничем не примечательный вечер, когда Дэвид и я отправились спать. Кто-то дернул меня за плечо и окликнул, но не Мистер Миллион, а другой человек, сморщенный горбун в потрепанной красной ливрее.
– Он хочет тебя видеть, – сообщил посланник, – вставай.
Я встал, и он увидел, что на мне нет ничего, кроме ночной пижамы. Это явно не предусматривалось данным ему заданием, и несколько мгновений я простоял, щурясь и позевывая, пока он колебался, как поступить.
– Оденься и причешись, – сказал он наконец.
Я повиновался, надев черные бархатные штанишки, в которых проходил весь день, а также (не знаю, чем было подсказано такое решение) новую чистую рубашку. Комната, куда он привел меня по пустынным коридорам, где и след простыл самых поздних клиентов, а также через иные залы и переходы, грязные, пыльные, заваленные крысиным пометом – туда ни один посторонний не допускался, – была та самая, на которую я наткнулся когда-то, с высокой резной дверью, перед которой мне читала мораль женщина в розовом. Я никогда не был внутри, но вот мой проводник постучал в дверь, и она отворилась раньше, чем я успел осознать происходящее.
Мой отец закрыл дверь, оставив меня стоять, отошел подальше и опустился в огромное кресло; на нем была та одежда, в которой я чаще всего его видел – красный халат и черный шарф, длинные густые черные волосы были зачесаны назад. Он смотрел на меня. Я помню, что мои губы дрожали – так сильно я сдерживался, чтобы не заплакать.
– Что же, вот ты и пришел, – промолвил он наконец, когда так прошло уже некоторое время, – и как мне называть тебя?
Я назвал ему свое имя, но он покачал головой:
– Нет, это не подходит. Когда ты здесь, со мной, у тебя должно быть свое особое имя, тайное. Выбери его сам, если у тебя есть такое желание.
Я молчал, потому что мне казалось совершенно непостижимым, как можно обращаться ко мне иначе, нежели при помощи этих двух слов, составлявших мое имя и бывших у меня предметом неизъяснимого, почти мистического поклонения.
– Хорошо, я сам выберу его, – сказал мой отец. – Ты будешь зваться Номер Пять. Подойди ко мне, Номер Пять.
Я так и сделал, и он произнес:
– Теперь мы сыграем в одну игру. Я буду показывать тебе картинки, а ты, все то время, пока будешь смотреть на них, должен о чем-то говорить. Рассказывать о том, что ты видишь на картинках. Если ты говоришь, ты выиграл, а если ты прервешься даже на секунду, то ты проиграл. Понятно?
Я сказал, что да.
– Отлично. Я знаю, что ты умный мальчик. Думаю, уместно сейчас сказать тебе, что Мистер Миллион присылает мне все записи разговоров с тобой и все отчеты об уроках и экзаменах. Ты догадывался об этом? Нет, лучше так: ты когда-нибудь задумывался, что он делает с этими записями?
– Я полагал, что он их выбрасывает, – ответил я, и мой отец наклонился ко мне, пока я говорил, что мне тогда весьма польстило.
– Нет. Они все собраны у меня тут, – он нажал какую-то кнопку, – и теперь помни, что ты должен все время говорить.
Но в первые несколько мгновений я был слишком удивлен, чтобы говорить. Словно по мановению волшебной палочки, в комнате возник мальчик намного младше меня, и разрисованный деревянный солдатик почти с меня ростом. Я коснулся их и обнаружил, что они бесплотны, точно воздух.
– Ну скажи что-нибудь, – напомнил отец, – что ты думаешь об этом, Номер Пять?
Конечно, я в первую очередь подумал о солдатике, и так же поступил малыш на картинке, выглядевший теперь годика на три. Он проковылял сквозь мою руку, как призрак, и попытался свалить фигурку. Я понял, что это такое. Это были голограммы – трехмерные изображения, образуемые интерференционным перекрыванием двух световых пучков. Все рассказы о них в моем учебнике физики казались мне крайне скучными, поскольку иллюстрировались плоскими рисунками шахматных фигур; теперь же прошло некоторое время, прежде чем я отождествил эти шахматные фигурки с привидениями, гуляющими в полночь по отцовской библиотеке. Мой отец терпеливо повторял:
– Говори. Скажи что-то. Опиши, что ты чувствуешь. О чем сейчас думает малыш?
– Ну, мальчику просто нравится этот большой солдатик, и он хочет сбить его на пол, если получится, потому что он понимает, что это всего лишь игрушка, но он не может смириться, что тот выше его… – Я проговорил очень долго, может быть, несколько часов. Солдата сменили игрушечные пони, кролик, тарелка супа с крекерами; но центральный персонаж каждой из сценок оставался неизменным, это был трехлетний мальчик. Когда горбун в красной ливрее явился снова, чтобы отвести меня в постель, я устал так, что горло заболело, а голос совсем охрип. Той ночью я видел сны, в которых маленький мальчик занимался то одним делом, то другим, и в этих видениях его личность странным образом наложилась на меня с моим отцом, а иногда я даже представлялся самому себе третьим наблюдателем, изучающим с некоторого расстояния нас обоих: наблюдаемого и того, кто его наблюдает.
Следующей ночью я заснул почти сразу же, как Мистер Миллион позволил нам идти в спальню, и успел лишь мысленно поздравить себя с этим. Но вскоре явился горбун, чтобы разбудить Дэвида. Я проснулся, но не подал виду, поскольку мне вдруг пришло в голову, что в противном случае он может забрать и меня; в те минуты на грани сна и бодрствования это казалось вполне возможным. Я проследил, как мой брат одевается и наскоро ерошит свои всклокоченные волосы в подобие прически. Когда он вернулся, я спал уже по-настоящему и не смог узнать, каково пришлось ему, пока Мистер Миллион не оставил нас, по своему обыкновению, в одиночестве на время завтрака.
Я пересказал Дэвиду свои впечатления, но то, что он поведал мне, было просто зеркальным отображением моего собственного вечера. Ему тоже показали голограммы, причем, по-видимому, те же самые: деревянный солдатик, пони. Его тоже заставляли говорить без перерыва, как это часто делал Мистер Миллион во время учебных диспутов и устных опросов. Но когда я поинтересовался, какое тайное имя выбрали для него, проявилось и несомненное отличие наших собеседований.
Он уставился на меня, не донеся до рта кусок торта. Я повторил вопрос:
– Каким именем он звал тебя, когда вы разговаривали?
– Он звал меня Дэвид. А ты думал как?