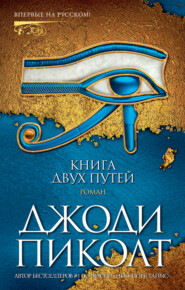По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новое сердце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он не умственно отсталый, – сказал я. – Возможно, у него ай-кью в два раза выше, чем у тебя, Крэш.
– Заткнись, ты, мазилка! – приказал Кэллоуэй. – Заткнитесь, все!
Кэллоуэй опустился на колени у двери своей камеры, выуживая что-то с помощью переплетенных нитей, вытянутых из одеяла и привязанных одним концом к свернутому в трубочку журналу. Он забросил удочку в центр узкого перехода – рискованный трюк, поскольку надзиратели могли вернуться в любую минуту. Мы обычно передавали что-нибудь друг другу таким способом: книжку в мягкой обложке, шоколадный батончик. Поначалу мы не могли сообразить, чем он там занят, но вскоре заметили на полу маленький яркий овал. Лишь Господу Богу известно, зачем птице понадобилось свить гнездо в такой дыре, но несколько месяцев назад птаха, залетевшая к нам через прогулочный плац, сделала это. Одно яйцо вывалилось из гнезда и разбилось, недоразвившийся птенец дрозда лежал на боку, его тощая сморщенная грудка ходила ходуном.
Кэллоуэй дюйм за дюймом смотал бечевку.
– Он не выживет, – заметил Крэш. – Маме он уже не нужен.
– Ну а мне – нужен, – сказал Кэллоуэй.
– Положи его в теплое место, – предложил я. – Заверни в полотенце или типа того.
– Или в футболку, – добавил Джои.
– Не нуждаюсь в советах чмо, – заявил Кэллоуэй, но секунду спустя спросил: – Думаешь, футболка подойдет?
Пока Шэй вопил, призывая начальника, все слушали прямой репортаж Кэллоуэя. Дрозда завернули в футболку. Дрозда засунули в кед. Дрозд повеселел. Дрозд на полсекунды приоткрыл левый глаз.
Мы все успели позабыть, каково это – сильно любить что-то или кого-то и очень бояться это потерять. В первый год, попав сюда, я представлял себе, что полная луна – мой домашний любимец, что она раз в месяц приходит именно ко мне. А прошлым летом Крэш занимался тем, что обмазывал джемом решетку вентиляционной трубы, чтобы привлечь колонию пчел, но делал это не из любви к пчеловодству, а потому, что ошибочно полагал, будто может выдрессировать их для нападения на спящего Джои.
– Ковбои идут, – предупредил Крэш о приближении надзирателей к галерее.
Через минуту двери с лязгом открылись. Офицеры стояли перед камерой с душем, ожидая, когда Шэй просунет руки в проем, чтобы надеть ему наручники для перемещения на двадцать футов обратно в камеру.
– Они не знают, что это может быть, – сказал надзиратель Смайт. – Они исключили легочные проблемы и астму. Говорят, похоже на аллергию, но мы все убрали из ее комнаты, Рик, так что детская теперь голая, как камера.
Иногда надзиратели болтали при нас друг с другом. Они никогда не посвящали заключенных в свою жизнь, и это, по сути, было хорошо. Мы не хотели знать, что у парня, который подвергает нас полному личному досмотру, есть сын, забивший победный гол в футбольном матче в прошлый четверг. Лучше обойтись без сантиментов.
– Врачи говорят, – продолжал Смайт, – что ее сердечко не выдержит такого стресса. И я тоже не выдержу. Представь, каково это – видеть свою крошку со всеми этими подключенными трубками и мешочками?
Второй надзиратель, Уитакер, был католиком. Он любил подбрасывать на мой обеденный поднос написанные от руки цитаты из Библии, осуждавшие гомосексуализм.
– Отец Уолтер в воскресенье читал молитву за Ханну. Он сказал, что с радостью навестит тебя в больнице.
– Нет ничего такого, что я хотел бы услышать из уст священника, – пробормотал Смайт. – Что это за Бог, который творит подобное с ребенком?
Руки Шэя проскользнули через окошко в душевой камере, на них надели наручники, и дверь открылась.
– Начальник говорил, что примет меня?
– Угу, – пробубнил Смайт, ведя Шэя в камеру. – Он приглашает тебя на крутое чаепитие!
– Мне просто надо поговорить с ним пять минут…
– Не у тебя одного проблемы, – огрызнулся Смайт. – Заполни запрос.
– Не могу, – ответил Шэй.
Я откашлялся:
– Офицер, можно мне тоже бланк запроса, пожалуйста?
Он запер камеру Шэя, вынул бланк из кармана и просунул его в окошко моей камеры.
Когда надзиратели выходили с галереи, послышалось тонкое невнятное чириканье.
– Шэй? – спросил я. – Почему ты не хочешь сделать запрос?
– Не могу найти правильные слова.
– Уверен, начальнику наплевать на грамматику.
– Нет, когда я пробую писать, то путаю буквы.
– Так скажи мне, и я напишу за тебя.
Наступила пауза.
– Ты сделаешь это для меня?
– Вы оба, завязывайте с мыльной оперой! – вмешался Крэш. – Меня от вас тошнит.
– Скажи начальнику, – начал диктовать Шэй, – что я хочу пожертвовать свое сердце, после того как он меня прикончит. Я хочу отдать его девочке, которой оно нужно больше, чем мне.
Я приложил бланк к стене и написал все это карандашом, поставив подпись Шэя. Привязав запрос к своей удочке, я забросил листок в узкую щель под дверью его камеры.
– Отдай это надзирателю, который будет делать обход завтра утром.
– Эй, Борн, – вмешался Крэш, – не представляю, что бы я с тобой сделал. С одной стороны, ты подонок, убивший ребенка. За то, что ты сотворил с этой девчушкой, я бы пожелал тебе стать грибковой паршой, покрывающей Джои. Но с другой стороны, ты завалил копа, и я благодарен тебе за то, что на свете стало одной свиньей меньше. И что я, по-твоему, должен испытывать? Ненавидеть тебя или уважать?
– Ни то ни другое, – сказал Шэй. – То и другое.
– Знаешь, что я думаю? Убийство ребенка перевешивает все добро, что ты мог совершить.
Крэш встал перед дверью своей камеры и принялся молотить по оргстеклу металлической кофейной кружкой:
– Вышвырните его! Вон! Вон!
Джои, привыкший довольствоваться положением пешки, первым подхватил эти выкрики. Вскоре к ним присоединились Тексас и Поджи, поскольку они всегда слушались Крэша.
– Вышвырните его!
– Вышвырните его!
Из громкоговорителя зазвучал голос Уитакера:
– У тебя проблемы, Витале?