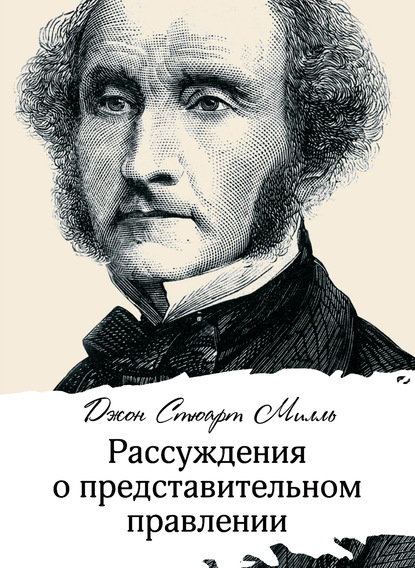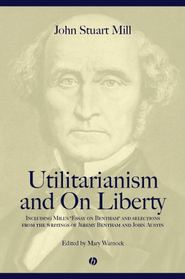По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассуждения о представительном правлении
Автор
Год написания книги
1861
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассуждения о представительном правлении
Джон Стюарт Милль
Книга представляет собой всестороннее систематическое изложение принципов парламентской системы правления, написанное в период, когда «и консерваторы, и либералы… утратили веру в политическое учение, которое они исповедуют на словах». Главную озабоченность автора вызывает возникающая в условиях чистой демократии опасность для свободы личности, исходящая от доминирующих в обществе средних классов: с одной стороны, посредственное умственное развитие представительного собрания и контролирующего его общественного мнения, и с другой – классовый характер законодательства численного большинства, образовавшегося из этого класса. Милль ставит задачу всеобщего представительства в парламенте (а не только большинства), с тем чтобы, обеспечив права – просвещенного – меньшинства, нейтрализовать тиранию большинства.
Джон Милль
Рассуждения о представительном правлении
John Stuart Mill
Considerations on Representative Government
© ООО «ИД «Социум», оформление, 2019
* * *
Предисловие к 1-му изданию
Тот, кто уже почтил своим вниманием мои исследования, вероятно, не найдет много нового в настоящем труде, так как в нем проведены те же принципы, которые я старался установить в течение большей части моей жизни, а соответственные были практические соображения уже не раз высказаны другими или же мною самим. Новое, однако, заключается в том, что все эти принципы и соображения собраны, приведены в связь и до некоторой степени обоснованы. Во всяком случае, многие мнения, хотя и не новы, встретят и теперь столь же мало сочувствия, как и прежде.
Мне, однако, кажется, судя по некоторым признакам, в особенности судя по последним прениям о парламентской реформе, что и консерваторы, и либералы (если я могу называть их так, как они сами продолжают называть себя) утратили веру в политическое учение, которое они исповедуют на словах; но ни те, ни другие ни на шаг не подвинулись в приискании лучшего учения. Между тем оно может быть найдено; но оно не должно быть простым компромиссом между двумя партиями, а должно представлять нечто более широкое, настолько широкое, чтобы его могли принять и либералы, и консерваторы, не отрекаясь от того, что в их собственном учении действительно для них дорого. Когда многие смутно сознают необходимость в новом учении и когда очень немногие решаются похвалиться тем, что нашли его, то каждый может без сомнения предлагать то, что ему представляется лучшим в его собственных идеях и в идеях других людей и что может содействовать установлению новой доктрины.
Предисловие ко 2-му изданию
Это издание отличается от первого лишь несколькими страницами, прибавленными к VI главе, для разъяснения того, что подало повод к возражениям против защищаемого в ней плана представительства меньшинства.
Глава I. В какой мере формы правления подлежат свободному выбору?
Все рассуждения о формах правления носят на себе более или менее исключительный отпечаток двух противоположных теорий о политических установлениях или, вернее, двух различных взглядов на то, что следует понимать под политическими установлениями. По одному взгляду на дело, управление – чисто практическое искусство, к которому применим только вопрос о средствах и цели. Формы правления – не что иное, как средства для достижения человеческих целей; они зависят только от человеческой изобретательности. Так как они – дело рук человека, то предполагается, что от воли человека зависит создать ту или другую форму правления. При таком взгляде на дело правление составляет задачу, решаемую как всякий другой деловой вопрос. Прежде всего надо определить цели, которые должно осуществлять правительство; затем решить, какая форма правления наиболее пригодна для достижения этой цели. Выяснив эти два вопроса и определив, какая форма правления совмещает в себе наибольшую сумму добра и наименьшую сумму зла, мы должны еще заручиться одобрением наших соотечественников или тех, для которых данные установления предназначены. Найти наилучшую форму правления, убедить других, что она действительно наилучшая, и побудить их добиваться ее – вот какой процесс происходит в уме людей, придерживающихся этой политической философии.
Для них конституция представляет такой же интерес, как какой-нибудь плуг или молотилка, – вся разница только в степени.
Иначе смотрят на дело политические мыслители, которые так далеки от отождествления формы правления с машиной, что смотрят на нее как на нечто самозарождающееся, а на политическую науку – как на отрасль естествознания. По их мнению, формы правления не подлежат выбору. Их надо брать такими, какими они сложились. Правительства не могут быть организованы по заранее намеченному плану: они «не создаются, а сами возникают». Наше дело по отношению к ним, как и по отношению ко всем другим явлениям мировой жизни, – изучать присущие им свойства и приспособиться к ним. Основные политические установления данного народа, в глазах этой школы, составляют своего рода органический продукт природы и жизни народа: его обычаев, инстинктов, бессознательных потребностей и желаний, менее всего его сознательных намерений. Народная воля проявляется только в том, что она временные нужды удовлетворяет временными средствами. Эти средства оказываются действительными, если они достаточно согласованы с национальными чувствами и характером; таким образом, путем постепенной агрегации создается правительственная система, вполне пригодная для народа, обладающего ею; но было бы тщетно навязывать ее другому народу, у которого природа и обстоятельства не содействовали ее самостоятельному возникновению.
Трудно решить, которая из этих двух доктрин нелепее, если предположить, что кто-нибудь захотел бы придерживаться одной из них исключительно. Но принципы, которых придерживаются люди в спорном вопросе, обыкновенно очень несовершенно выражают их действительные взгляды. Никто не верит, чтобы всякий народ способен был создать всякого рода установления. Как бы нас не соблазняла параллель между последними и механическими орудиями, однако очевидно, что человек даже в выборе деревянного или железного инструмента не руководствуется только тем, что инструмент этот сам по себе наилучший. Он принимает во внимание, обладает ли инструмент другими качествами, которые могли бы сделать выгодными его употребление, и в особенности обладают ли те, которые будут им пользоваться, необходимыми знаниями и сноровкой. С другой стороны, те, кто признает государственные установления своего рода живыми организмами, на самом деле вовсе не такие политические фаталисты, какими они себя выдают. Они не утверждают, что человечеству не предоставлено никакого выбора относительно формы правления, которой оно желало бы подчиниться или что при решении вопроса о преимуществах той или другой вовсе не должны приниматься во внимание последствия, вытекающие из них. Несмотря на то, что каждая сторона, из духа оппозиции, сильно преувеличивает свою собственную теорию и никто не придерживается этих теорий в их безусловной форме, обе они, однако, соответствуют глубокому различию между двумя политическими миросозерцаниями. Далее, хотя, очевидно, ни одна из них не может быть признана истинной, с другой стороны столь же очевидно, что ни одна из них не может быть признана вполне ложной, и нам предстоит исследовать каждую из них в самом ее основании и воспользоваться той долей истины, которая заключается в них.
Итак, вспомним прежде всего, что политические установления (хотя это, может быть, иногда игнорируется) дело рук человеческих, и что они обязаны своим происхождением и своим существованием человеческой воле. Люди не нашли их в одно прекрасное утро готовыми. Не похожи они и на деревья, которые, будучи раз посажены, «всегда растут», между тем как люди «спят». Во всякий период их существования сознательное вмешательство человека изменяет их в том или другом направлении. Поэтому, как все дела рук человеческих, они могут быть хорошо или дурно организованы, смотря по тому, насколько при создании их действовали сообразительность и искусство. Наконец, если какой-нибудь народ не позаботился или внешнее давление ему помешало выработать в себе государственный строй путем устранения зла по мере того, как оно возникало, или как пострадавшие от него приходили к сознанию своей силы, то это замедление политического прогресса несомненно представляет большое несчастие для него, но еще не служит доказательством, что формы, пригодные для других, не пригодны или окажутся непригодными для него, когда ему заблагорассудится принять их.
С другой стороны, нужно также иметь в виду, что политический механизм не действует сам собою. Он возник при помощи людей и должен приводиться в действие людьми, да к тому же еще самыми обыкновенными. Он нуждается не только в простом их одобрении, но и в деятельном участии, и должен быть приноровлен к способностям и качествам людей, для которых он предназначен. Это предполагает три условия. Народ, для которого предназначена форма правления, должен сочувствовать ей, или, если не сочувствовать, то по крайней мере не ставить непреодолимых препятствий ее установлению. Он должен желать и быть способным оказывать ей поддержку и исполнить все, что требуется для того, чтобы она могла достичь своей цели. Под исполнением надо подразумевать как действие, так и воздержание от него. Народ должен быть способен выполнить условия действия и условия самоограничения, необходимые как для поддержания установленного политического строя, так и для осуществления его целей, потому что его соответствие с ними составляет его достоинство.
При отсутствии одного из этих трех условий формы правления, что бы ни сулила последняя в других отношениях, она непригодна для данного случая.
Первое препятствие, т. е. несочувствие народа, не нуждается в пояснениях, потому что в теории оно никогда не могло быть упущено из виду. С фактом несочувствия постоянно приходится встречаться. Ничто, кроме внешней силы, не могло заставить североамериканских индейцев подчиниться ограничениям организованного политического строя. То же самое, хотя и в менее решительной форме, можно сказать и о варварах, которые наводнили Римскую Империю. Потребовались века и полное изменение условий, чтобы они привыкли к правильному подчинению даже собственным вождям, когда они не состояли непосредственно под их начальством. Есть нации, которые добровольно не подчиняются никакому правительству, кроме правительства известных фамилий, с незапамятных времен имевших привилегию давать им вождей. Другие, если только они не вынуждены были покориться чужеземным завоевателям, никогда не соглашались признать монархию или же республику. И это отвращение бывает так сильно, что по крайней мере в данное время несимпатичная форма правления не может быть осуществлена.
Но бывают и такие случаи, когда народ, хотя и не противится известной форме правления, – может быть, даже желает ее, – однако не расположен или неспособен выполнить даже такие требования, которые необходимы для ее номинального существования. Так, народ может предпочитать свободную форму правления; но если он вследствие нерадения, беззаботности, малодушия, недостатка духа общественности, неспособен к усилиям, необходимым для ее сохранения; если он не хочет бороться за нее, когда ей угрожает непосредственная опасность; если у него можно отнять ее хитростью; если в момент отчаяния, или временной паники, или в порыве увлечения он может сложить свою свободу у ног хотя бы великого человека, или облечь его властью, которая дает ему возможность ниспровергнуть свободные установления, – то во всех этих случаях народ более или менее не дорос до свободы, и хотя кратковременное пользование ею могло послужить ему ко благу, однако долго свобода при таких условиях продержаться не может. Затем, народ может не иметь охоты или быть неспособным к исполнению обязанностей, налагаемых на него известной формой правления. Варварский народ, хотя до известной степени и восприимчивый к преимуществам цивилизованного строя, может быть неспособным к самоограничению, которого он требует. Его страсти могут быть слишком необузданны, личная гордость слишком непреклонна, чтобы он мог воздержаться от частных столкновений и предоставить закону мстить за причиненные ему действительные и мнимые обиды. В подобном случае, чтобы культурное правительство могло действительно быть полезным, оно должно иметь в значительной степени характер абсолютный, т. е. не допускать над собою контроля и сильно ограничивать влияние народа.
Далее, народ, который не хочет активно содействовать закону и властям в преследовании преступников, может пользоваться только ограниченной свободой. Если народ более расположен скрывать преступника, чем преследовать его; если он, подобно индусу, готов принести ложную присягу, чтобы спасти ограбившего его человека, вместо того, чтобы возбудить против него преследование и тем навлечь на себя его месть; если, как это еще случается у некоторых европейских народов, всякий спешит перейти на другую сторону улицы, когда увидит, что среди белого дня совершается убийство, потому что это касается полиции и благоразумнее не вмешиваться не в свои дела, наконец, если народ возмущается казнью, но безразлично относится к убийству, – то ему нужны общественные власти с более широкими полномочиями, чем в других странах: у него, значит, не обеспечены основные и самые необходимые условия цивилизованной жизни. Столь слабое развитие общественности у народа, вышедшего из состояния дикости, несомненно, чаще всего бывает результатом дурного управления, которое приучило людей смотреть на закон, как на нечто созданное для каких-то других целей, но не для их блага, а на его охранителей – как на более опасных врагов, чем даже провинившихся в открытом нарушении его. Но как бы мы ни оправдывали людей, у которых сложились такие понятия, и даже если бы мы допустили, что эти понятия могут со временем измениться под влиянием хорошего управления, тем не менее, пока они существуют, народ, настроенный подобным образом, не может быть подчинен власти с такими ограниченными полномочиями, как народ, симпатии которого находятся на стороне закона и который готов энергично содействовать его исполнению.
Наконец, и представительные учреждения окажутся недействительными и будут служить лишь простым орудием тирании и интриг, если большинство избирателей так мало заинтересовано в этой форме правления, что не желает даже участвовать в выборах, или, если и подают голоса, то не руководствуются соображениями общественного блага, а продают их за деньги или вотируют по указанию лица, от которого они зависят, или того, кого они хотели бы по личным соображениям расположить в свою пользу[1 - Советуем по поводу этот частного замечания Милля, прочесть статью об общем значении представительного правления («Великая ложь нашего времени»), помещенную в «Московском Сборнике» (М.: Изд. К. П. Победоносцева, 1896. С. 31–52). – Изд.]. Такого рода избирательные собрания вместо того, чтобы служить действительной гарантией против дурного управления, чаще всего бывают только придаточным колесом в его механизме. Помимо такого рода моральных препятствий, часто и механические трудности служат непреодолимой преградой к установлению известной формы правления. Хотя в древности могла встречаться и действительно встречалась значительная личная независимость; но вне городской общины правильно организованное народное правление было немыслимо, потому что физические условия, необходимые для установления общественного мнения, встречались только там, где граждане могли собираться для обсуждения общественных дел на одной агоре[2 - У древних греков место народных собраний; также название самих народных собраний.]. Вообще, полагают, что это препятствие исчезает, как только установлена представительная система. Но чтобы его вполне устранить, необходима печать, преимущественно журналистика, – это единственная, хотя и во многих отношениях несовершенная заместительница пникса и форума. При известных общественных условиях даже более или менее обширная монархия не могла тогда существовать, и неминуемо должна была дробиться на мелкие владения, или совершенно независимые друг от друга, или связанные между собою слабыми узами наподобие феодальных отношений, потому что правительственный механизм был недостаточно совершенен для приведения в исполнение приказаний центральной власти на значительных расстояниях. Даже повиновение со стороны армии обусловливалось только ее доброй волей, и не было средств заставить народ вносить сумму налогов, достаточную для содержания войска, обеспечивавшего порядок на обширной территории. Само собой разумеется, что во всех подобных случаях препятствия могут быть более или менее разнообразные. Они могут быть так значительны, что данная форма правления плохо функционирует, что, впрочем, не исключает безусловно возможности ее существования и не мешает отдавать ей на практике предпочтение перед другой. Это уже зависит от соображения, которого мы еще не коснулись, – именно от того, в какой мере различные формы правления могут содействовать прогрессу.
Мы рассмотрели три основные условия, необходимые для того, чтобы форма правления могла быть применена к народу, для которого она предназначена. Если сторонники политической теории, которую можно назвать натуралистической, настаивают только на необходимости этих трех условий; если они только утверждают, что никакое правительство не может быть прочно, если оно не выполняет первого и второго условий и в значительной степени третьего, то с такими ограничениями их доктрина неоспорима. Но когда ей придают более широкое значение, она мне кажется несостоятельной. Все, что говорят о необходимости исторических основ для государственных установлений, о согласовании их с народными обычаями и характером и т. п., сводится только к этому, или же не имеет значения.
Подобные фразы всегда содержат в себе значительную долю сентиментализма, затемняющего их здравое идейное содержание. Но с точки зрения практической, приписываемые политическим установлениям свойства только облегчают осуществление упомянутых трех условий. Если какое-нибудь установление или совокупность установлений находит для себя уже подготовленную почву в воззрениях, вкусах и обычаях народа, то последний не только охотнее принимает их, но легче осваивается с ними и с самого начала бывает более расположен делать все, что требуется, как для сохранения установления, так и для нормального его функционирования. Со стороны законодателя было бы большой ошибкой, если б он не воспользовался, по возможности, существующими обычаями и чувствами в своих мероприятиях. С другой стороны, было бы преувеличением признавать необходимым условием то, что составляет только поддержку и облегчение. Люди охотнее исполняют то, к чему они привыкли; но они постепенно привыкают делать и то, что для них еще ново. Привычка, конечно, много значит, но, часто сталкиваясь с известной идеей, мы привыкаем к ней, хотя она в начале нам и казалась чуждой. Существует немало примеров, когда целый народ охватывала жажда новизны. Мера прирожденной восприимчивости народа к новизне и способности приспособляться к новым условиям сама по себе составляет уже одну из существенных сторон вопроса. Эта способность далеко не равномерно развита у разных наций и на различных ступенях цивилизации. Вопрос о способности народа примениться к данной форме правления невозможно решить на основании какого-нибудь поверхностного принципа. Единственным верным мерилом в подобных случаях может быть только знакомство с народом, равно как общий практический смысл и проницательность. Не следует также упускать из виду следующее соображение. Народ может быть не подготовлен для хороших установлений; но расположение к ним должно быть необходимым условием этой подготовки. Рекомендовать и защищать известное установление или форму правления, выставлять в ярком свете их преимущества, вот один из способов, и часто единственно возможный – подготовить мысль народа не только к принятию или требованию данных установлений, но и к осуществлению его в жизни. Каким средством располагали итальянские патриоты прошлого и настоящего поколений, чтобы подготовить итальянский народ к свободе и объединению, кроме поощрения требовать их? Однако те, кто берется за такую задачу, должны уяснить себе не только преимущества данного установления или данных политических форм, но равным образом и нравственные, умственные и активные способности, необходимые для приведения их в действие, чтобы, если это возможно, предупредить желания, не соответствующие способностям народа.
Вывод из всего сказанного тот, что в границах упомянутых трех условий установления и формы правления составляют предмет, подлежащий выбору. Исследовать, так сказать, абстрактно вопрос о наилучшей форме правления – не праздное времяпрепровождение, но в высшей степени плодотворная задача для научного ума; ввести в какую-либо страну лучшие установления, которые при данном ее состоянии могли бы сносно удовлетворять требуемым условиям – это одна из разумнейших задач практической политики.
Человеческая воля имеет в деле управления такое же значение, как и во всяком другом деле, т. е. очень ограниченное. Человеческая воля может действовать только при помощи одной или нескольких сил природы. Следовательно, и необходимые для желаемой цели силы должны существовать, и они будут действовать только согласно своим собственным законам. Мы не можем заставить реку течь в обратном направлении, но тем не менее мы не скажем, что водяные мельницы «не строятся, а сами вырастают». В политике, как и в механике, силу, которая приводит машину в действие, надо искать вне механизма, и если ее нет или ее недостаточно для преодоления могущих встретиться препятствий, то и механизм окажется бесполезным. Этот вовсе не особенность политического искусства, но означает только, что оно подчинено тем же ограничениям и условиям, как и все другие искусства.
Здесь мы встречаемся с другим возражением, или, вернее, с тем же возражением, но только иначе сформулированным. Силы, говорят нам, от которых зависят наиболее крупные политические явления, не подчиняются политикам или философам. Правление страны, говорят нам, в наиболее существенных отношениях заранее определено и обусловлено состоянием страны с точки зрения распределения в ней общественных сил. Какова бы ни была преобладающая сила в обществе, но она сосредоточит правительственную власть в своих руках; а перемена в политическом строе не может быть устойчива, если ей не предшествовало или ее не сопровождало соответственное изменение в распределении общественных сил. Поэтому нация не может выбирать себе форму правления. Предметом выбора могут быть только детали и практическая организация; что же касается сущности целого, организации верховной власти, то они определяются социальными условиями.
Я допускаю, что в этом учении есть доля истины; но чтобы извлечь из нее какую-нибудь пользу, надо точнее его формулировать и указать его границы. Что означает слово сила, когда говорят, что самая могущественная общественная сила будет вместе с тем и самой могущественной в деле управления? Не мускульная же и не нервная; в противном случае чистая демократия была бы единственно возможной формой правления.
Присоединим к чисто мускульной силе два других элемента – богатство и умственное развитие, и мы будем ближе к истине, но еще далеки от полного преобладания ею. Большинство не только часто подчинено меньшинству; но на его стороне может быть перевес в имущественном и умственном отношении, и тем не менее оно может находиться в подчинении, принудительном или ином, у меньшинства, в том и другом отношении стоящего ниже его. Чтобы все эти разнообразные элементы могли получить политическое значение, они должны быть организованы; и лучше организованными неизбежно оказываются те, в чьих руках находится правительственная власть. Партия, слабейшая с точки зрения всех других элементов силы, может получить значительный перевес, когда правительственная власть брошена на весы, и уже в силу одного этого она может надолго сохранить преобладающее влияние, хотя без сомнения подобное правительство находится в положении, которое называется в механике неустойчивым равновесием, – в положении предмета, который держится в равновесии на своем более тонком конце, и, раз уклонившись от него, стремится все более и более удаляться от своего прежнего положения, вместо того, чтобы возвращаться к нему.
Но есть еще более серьезные возражения против этой политической теории, как она обыкновенно формулируется. Всякая общественная сила, стремящаяся стать политической, не инертна, не чисто пассивна; это – активная сила, другими словами, имеющая действительное применение и составляющая очень ничтожную часть существующих сил. Выражаясь политическим языком, мы можем сказать, что значительная часть всякой силы заключается в воле. Можно ли после этого при оценке элементов политической власти не принимать во внимание тех из них, которые действуют на волю? Предполагать, что надо пользоваться влиянием в обществе, чтобы обладать влиянием в правительстве, что поэтому совершенно бесполезно стараться воздействовать на политический строй при помощи общественного мнения – значит упустить из виду, что общественное мнение само по себе одна из величайших активных общественных сил. Человек с убеждениями составляет социальную силу, равную девяносто девяти, у которых есть только интересы. Тот, кто может убедить общество, что известная форма правления или общественный факт заслуживают предпочтения пред другими, совершает почти самый важный шаг, какой только может сделать для того, чтобы расположить общественные силы в его пользу. В тот день, когда первый мученик был побит камнями в Иерусалиме, а тот, кому суждено было сделаться апостолом язычников, стоял тут же, «допуская его смерть», можно ли было предположить, что партия этого побитого камнями человека была в то время и в той местности самой значительной общественной силой? И не подтверждено ли это дальнейшими событиями? Люди эти были силой, потому что их убеждения были сильны. По той же причине веттенбергский монах на Вормском соборе оказался более могущественной общественной силой, чем сам император Карл V со всеми имперскими чинами. Но, скажут нам, все это случаи, которые касаются религии, а религиозные убеждения обыкновенно особенно сильны. Возьмем же чисто политический пример, где хотя религия и замешана, но была на стороне потерпевшей. Чтобы убедиться в том, что отвлеченная мысль составляет один из главных элементов социальной силы, достаточно вспомнить о прошлом веке, когда почти не было трона в Европе, на котором не восседал бы король или император или, что еще более удивительно, папа, либерально настроенный и склонный к реформам, о веке Фридриха Великого, Екатерины II, Иосифа II, Петра Леопольда, Бенедикта XIV, Ганганелло, Помбаля, д’Аранды; когда общее течение увлекло даже неаполитанских Бурбонов, когда все деятельные умы среди французской аристократии были проникнуты идеями, сильно гибельными для них впоследствии. Этот пример лучше всего доказывает, что физической и экономической силой далеко не исчерпывается все общественное влияние. Не изменением материальных интересов, но распространением нравственных идей был положен конец торговле неграми в Британской Империи и в других странах. Крепостные в России обязаны своим освобождением если не чувству долга, то по крайней мере распространению более просвещенного взгляда на истинные интересы государства. Наши поступки обусловливаются нашими мыслями, и хотя убеждения средних людей определяются скорее их личным положением, чем разумом, но не меньшее влияние имеют над ними убеждения тех, личное положение которых разнится от их собственного, равно как и совокупный авторитет всех просвещенных людей. Поэтому, когда удается убедить большинство образованных людей в том, что такой-то социальный или политический строй хорош, а такой-то дурен, или что один желателен, а другой нежелателен, то уже много сделано, чтобы упрочить первый. Таким образом принцип, в силу которого правительство данной страны должно соответствовать существующим общественным силам, оправдывается лишь настолько, насколько он благоприятствует, но не насколько он препятствует разумному выбору между всеми формами правления, возможными при данном состоянии общества.
Глава II. Критерий хорошей формы правления
Так как форма правления данной страны подлежит до известной степени свободному выбору, то теперь надо выяснить, чем мы должны руководствоваться при этом выборе, каковы отличительные особенности формы правления, наиболее соответствующие интересам данного общества.
Прежде чем приступить к решению этого вопроса, повидимому, необходимо выяснить, каковы настоящие функции правительства; ибо если управление составляет только средство, то выбор средства должен зависеть от степени пригодности его для достижения намеченной цели. Но такая постановка вопроса гораздо менее облегчает его исследование, чем можно предполагать, и даже не выясняет вопроса во всем его объеме. Во-первых, потому, что правительственные функции не суть нечто неизменное, но бывают различны при различном состоянии общества, – они обширнее у остальных народов, чем у передовых. Во-вторых, характер какого-нибудь правительства или совокупности политических установлений не может быть правильно оценен, если мы ограничимся исследованием законной сферы правительственных функций. Благотворное влияние правительства по необходимости ограничено этой сферой, но, к сожалению, нельзя того же сказать о неблагоприятном его влиянии. Всякого рода зло, какое только бывает уделом человека, может быть на него навлечено правительством, и человек не может извлечь из общежития ни одного из связанных с ним выгод, если только это противоречит основным законам государства и если эти законы не позволяют ему пользоваться ими. Не говоря уже о косвенных влияниях, непосредственное вмешательство властей может охватить всю жизнь человека; и их влияние на благосостояние общества должно быть рассматриваемо и оценено только по отношению ко всей совокупности интересов человечества.
Таким образом, мы вынуждены остановиться на таком сложном предмете, как совокупность интересов общества. Мы попытаемся распределить их по категориям, чтобы лучше выяснить свойства, необходимые данной форме правления для того, чтобы они лучше могли содействовать соответственной группе разнообразных интересов. Вопрос упростился бы значительно, если бы можно было сказать, что благосостояние общества состоит из таких-то и таких-то элементов, что одни из них требуют таких-то условий, а другие – других, и что поэтому форма правления, соединяющая в себе все эти условия в высшей мере, должна считаться наилучшей. Таким образом, можно было бы построить теорию хорошего правительства, соединив из отдельных теорий оба элемента, создающих благосостояние общества.
Но, к несчастью, перечислить и распределить все составные элементы общественного благосостояния – дело нелегкое. Почти все, кто последнее время занимался политической наукой с более или менее широкой точки зрения, чувствовал важность подобной классификации. Но сделанные до сих пор в этом направлении попытки остановились, насколько мне известно, на первом шаге. Классификация обыкновенно начинается и кончается распределением общественных потребностей по двум главным рубрикам порядка и прогресса (по фразеологии французских мыслителей); покоя и движения, по терминологии Кольриджа. Это разделение кажется удовлетворительным и заманчивым, вследствие представляемой этими двумя рубриками, на первый взгляд, ясной противоположностью и замечательным различием вызываемых ими чувств. Но я полагаю, что различия между порядком или покоем и прогрессом неточно и недостаточно научно (хотя оно допустимо в разговорной речи), если его употреблять для определения необходимых правительству свойств.
Прежде всего, что такое порядок и что такое прогресс? По отношению к прогрессу, сомнений не может быть, по крайней мере, на первый взгляд. Когда говорят о прогрессе, как об одной из потребностей человеческого общества, то под ним подразумевают совершенствование. Это еще довольно ясная идея. Но что такое порядок? Это слово означает то нечто большее, то нечто меньшее, но почти всегда совокупность всего того, в чем нуждается человеческое общество помимо совершенствования.
В самом тесном значении слова, порядок означает повиновение. О правительстве говорят, что оно охраняет порядок, когда ему удается держать народ в повиновении. Но есть различные степени повиновения, и не все они одинаково похвальны. Один только голый деспотизм может требовать от граждан безусловного повиновения всякому распоряжению, исходящему от какого бы то ни было носителя власти. Мы должны по крайней мере ограничить его значение теми из этих распоряжений, которые носят характер общих постановлений и изданы в форме, предусмотренной для законов. Порядок, понимаемый в этом смысле, составляет, несомненно, одну из необходимых принадлежностей всякого правления. Собственно говоря, власть, которая не умеет заставить повиноваться своим распоряжениям, не управляет. Но хотя порядок – необходимое условие всякого правления, он не составляет его цели. Правительство должно требовать повиновения, чтобы достигнуть другой цели. Мы должны, следовательно, еще рассмотреть, какова эта другая цель, помимо идеи усовершенствования, к которой должно стремиться правительство во всяком обществе, будь оно консервативным или прогрессивным.
В более широком смысле слово порядок означает, что общественное спокойствие не нарушается уже никаким частным насилием. Говорят, что порядок существует там, где вообще народ перестал разрешать свои ссоры самосудом и выработал привычку обращаться к правительству для решения своих тяжб. Но и в этом более широком значении слова, как и в прежнем более тесном, порядок является скорее одним из необходимых условий управления, чем его целью или признаком его превосходства. Привычка подчиняться правительству и обращаться к власти во всяком спорном деле может быть глубоко укоренена, а между тем способы, которыми правительство решает спорные и всякие другие дела, подлежащие его ведению, могут быть чрезвычайно разнообразны: и превосходны, и ниже всякой критики.
Если под порядком разуметь все, что общество требует от правительства, но что не содержится в понятии прогресса, то мы должны будем признать, что порядок есть охранение всякого существующего добра, а прогресс состоит в увеличении суммы этого добра. Эти две рубрики охватывают все, в чем можно требовать содействия от правительства. Но при таком разграничении мы не получим базиса для философии и политики. Мы не можем сказать, что, учреждая новую форму правления, нужно такие-то меры принять в интересах порядка, а такие-то – в интересах прогресса, так как в только что указанном смысле условия порядка и прогресса не противоположны друг другу, но сходны между собой. В самом деле, то, что служит к сохранению уже существующего общественного добра, совершенно тождественно с тем, что способствует его увеличению, и наоборот, с той только разницей, что для последней цели требуется гораздо больше деятельных сил, чем для первой.
Какие, например, личные качества граждан наиболее способствуют сохранению существующего уже в обществе благонравия, хорошего управления, преуспеяния и благосостояния? Каждый согласится, что эти качества – трудолюбие, честность, справедливость и благоразумие. Но не эти ли качества более всего ведут к прогрессу? Не составляет ли развитие этих добродетелей само по себе уже самый существенный прогресс? Если это так, то форма правления, содействующая трудолюбию, честности, справедливости и благоразумию, способствуют одновременно порядку и прогрессу: только для того, чтобы сделать известное общество прогрессивным, этих качеств требуется в гораздо большей мере, чем для того, чтобы удержать его на том уровне, какого оно уже достигло.
Как, с другой стороны, особенные свойства человеческой природы имеют наиболее близкое отношение к прогрессу и более отдаленное отношение к понятиям порядка и консерватизма? Свойства эти главным образом – умственная деятельность, предприимчивость и мужество. Но разве эти качества не требуются в одинаковой степени как для сохранения известного блага, так и для приобретения нового? Одно несомненно в человеческих делах, именно, что значительные успехи могут быть устойчивы только в том случае, если общество охраняет их с такой же энергией, с какой оно их достигло. То, что предоставлено самому себе, то неминуемо погибает. Если под влиянием удач ослабевает заботливость, предусмотрительность, готовность идти навстречу всевозможным препятствиям, то произойдет по большей части регресс. Умственные качества, которые, повидимому, направлены к достижению прогресса и составляют верх стремлений к нему, это – оригинальность и изобретательность. Однако эти качества не менее необходимы для устойчивости, так как при неизбежной изменчивости человеческих дел постоянно возникают новые недостатки и новые опасности, которые нужно устранить новыми средствами и мероприятиями для того только, чтобы сохранить то, что уже достигнуто. Таким образом, в делах управления все качества, содействующие развитию активности, энергии, мужества, оригинальности, одинаково необходимы как для устойчивости, так и для прогресса; только для второго они требуются в несколько большей степени.
Если теперь перейти из области духовных явлений в область внешних и так сказать предметных явлений, то можно указать на такую политическую или общественную организации, которые привели бы только к сохранению порядка, или только к прогрессу; все, что направлено к одному, ведет и к другому. Возьмите для примера полицию, как она обыкновенно организована: повидимому, главная задача ее исчерпывается охранением порядка. Однако, если полиция успешно охраняет порядок, т. е. если она подавляет преступления и обеспечивает личную и имущественную безопасность, то разве может что-либо более способствовать прогрессу? Наибольшая обеспеченность собственности является одним из главных условий и одной из главных причин процветания производства, а это и есть прогресс, как его обыкновенно понимают. Более совершенное подавление преступлений уменьшает и склонность к преступлению, что составляет прогресс в несколько отвлеченном значении слова. Личность, освободившись от забот и беспокойств, обусловливаемая неуверенностью в своей безопасности, может применять свои способности к улучшению как своей собственной участи, так и участи других; между тем как та же причина, привязывая человека к общественной жизни и отучая его видеть в ближнем настоящего или будущего врага, развивает все те чувства доброжелательства и товарищества и интерес к общему благосостоянию, которые играют такую важную роль в социальном прогрессе.
Возьмем еще более знакомый пример – хорошую систему налогов и финансов. Обыкновенно ее отнесли бы к области порядка. Однако может ли что-либо больше содействовать прогрессу? Финансовая система, способствующая первому, в силу тех же качеств, ведет и ко второму. Задача, например, экономической политики заключается не только в том, чтобы сохранить народное имущество, но и чтобы его увеличить. Справедливое распределение налогов, представляя гражданину пример нравственности и добросовестности в труднейших делах, равно как доказательство того значения, какое высшие власти придают этим качествам, значительно содействуют установлению в обществе сильного и сознательного нравственного чувства. Такой способ взимания налогов, не отрывающий гражданина от его обычных занятий и не стесняющий без надобности его свободы, способствует не только сохранению, но и увеличению народного богатства и поощряет к более деятельному применению индивидуальных способностей. Наоборот, все финансовые ошибки, препятствующие преуспеянию народа в материальном и нравственном отношении, ведут к его обеднению и деморализации, если они значительны. Вообще, если понимать слова порядок и устойчивость в их самом широком смысле, т. е. в смысле сохранения достигнутого, то мы будем предъявлять прогрессу те же требования, как и порядку, только в большей степени, а порядку – те же требования, как и прогрессу только меньшей степени.
В подтверждение мысли, что порядок по существу отличается от прогресса и что сохранение существующего и приобретение нового блага – понятия настолько различные, что служат базисом для коренной классификации, могут сослаться на то, что прогресс совершается часто в ущерб порядку, другими словами, что приобретая или стараясь приобрести известное благо, мы можем утратить одновременно другие. Так, например, материальный прогресс может сопровождаться понижением уровня нравственности. Соглашаясь с этим, мы должны, однако, сделать не тот вывод, что прогресс и устойчивость – две совершенно различные вещи, а что богатство и нравственность не совпадают. Прогресс – устойчивость и нечто сверх того, и это не опровергается мыслью, что прогресс в том или другом отдельном случае обусловливает собою устойчивость во всех других случаях. Равным образом прогресс в одном случае не обусловливает прогресса во всех остальных. Прогресс в данном случае обусловливает и устойчивость в том же случае: всякий раз, когда устойчивость приносится в жертву прогрессу в каком-нибудь случае – вместе с тем приносится в жертву и вообще прогресс; а если жертва оказалась напрасной, то этим нарушены не только интересы устойчивости, но и общие интересы прогресса.
Поэтому лучше отказаться от этих неверно противопоставленных понятий. Но если уже воспользоваться ими для того, чтобы научно установить понятие о хорошей форме правления, то философски было бы правильнее оставить без определения слово порядок, и сказать, что лучшая форма правления та, которая более всего ведет к прогрессу. Ибо прогресс предполагает порядок, но порядок не предполагает прогресса. Прогресс представляет собой высшую степень, а порядок низшую степень одного и того же явления. Порядок во всяком другом смысле представляет только часть тех качеств, которые требуются от хорошего правительства: он не составляет ни его идеи, ни его сущности. Порядок – скорее условие прогресса, так как, если мы желаем увеличить сумму нашего благосостояния, то прежде всего нам следует позаботиться о сохранении того, что мы уже имеем. Если мы хотим приобрести новые богатства, то первым правилом должно быть не растрачивать бесполезно имеющегося у нас добра. В этом смысле порядок не есть второстепенная цель, которую нужно примирить с прогрессом, но только часть и орудие самого прогресса. Если выигрыш в одном случае вызывается более значительной потерей в том же или в других случаях, то прогресса никакого нет. В стремлении к такому прогрессу заключаются все достоинства хорошей формы правления.
Но и такое определение критерия хорошей формы правления, основательное с метафизической точки зрения, непригодно для нас, потому что хотя в нем и содержится вся истина, но оно напоминает нам только об одной части ее. Со словом прогресс связывают идею о движении вперед, между тем как в том смысле, в каком мы его употребляем, оно означает и воспрепятствование к движению назад. Те же самые общественные причины, те же верования, чувства, учреждения и мероприятия, какие требуются для того, чтобы помешать регрессу, необходимы и для прогресса. Если бы даже невозможно было рассчитывать ни на какое улучшение, тогда жизнь была бы в той же степени, как и теперь, беспрерывной борьбой с разрушительными началами. Политика, как ее понимали древние, заключалась только в этом. Сам человек и все, что он делает, склонно постепенно вырождаться; однако это естественное стремление можно приостановить на более или менее продолжительное время при помощи целесообразных установлений. Хотя мы уже не придерживаемся этого взгляда и хотя большинство людей в настоящее время сочувствуют противоположной доктрине, полагая, что все стремится к совершенствованию, но не следует забывать, что в человеческих делах есть какая-то постоянная склонность к дурному, проявляющаяся во всевозможных безумиях, пороках, нерадении, лени и беспечности, и что единственным противовесом этому общему течению служат постоянные или временные усилия некоторых лиц, воодушевленных желанием добра. Полагать, что главное значение этих условий заключается в вызываемых ими действительных улучшениях и что их отсутствие имело бы последствием только то, что мы вернулись бы к прежнему состоянию, значит обнаруживать очень слабое понимание значения усилий, направленных к усовершенствованию человеческой природы и жизни. Самое слабое уменьшение этих условий не только остановило бы всякий прогресс, но вызвало бы общее стремление к регрессу. Этот регресс, раз начавшись, будет совершаться с постоянно возрастающей быстротой и задержать его окажется все труднее и труднее, пока не получится такого часто встречающегося в истории состояния, в котором до сих пор прозябает значительная часть человечества, когда, кажется, только нечеловеческая сила способна переменить течение и направить его снова по пути прогресса.
По этим соображениям слово прогресс столь же мало может служить основанием для классификации необходимых свойств формы правления, как и термины порядок и устойчивость. Коренная противоположность, выражаемая этими терминами, заключается не столько в самой сущности вещей, сколько в типах соответствующего ей человеческого характера. В одних характерах, как известно, преобладает осторожность, в других – смелость; в одних желание не подвергать опасности того, чем они уже обладают, сильнее, чем чувство, побуждающее их к усовершенствованию старого и к приобретению новых благ; наконец, есть и такие, которые избирают противоположный путь, более заботясь о будущем, чем о настоящем. В общих случаях путь, ведущий к цели, один и тот же; но людям приходится удаляться от него в противоположных направлениях. Это особенно важно при подборе личного состава какой-нибудь политической корпорации; для того, чтобы крайние стремления одних уравновешивались стремлениями других, в нее должны входить представители обоих типов. В этих видах не надо принимать никаких особых мер; достаточно позаботиться о том, чтобы не допустить ничего такого, что препятствовало бы достижению основной цели. Естественное соединение молодых и стариков, людей с установленным общественным положением и таких, которые только еще к нему стремятся, может в общем удовлетворить этой цели, если только это естественное равновесие не будет искусственно нарушено законом.
Джон Стюарт Милль
Книга представляет собой всестороннее систематическое изложение принципов парламентской системы правления, написанное в период, когда «и консерваторы, и либералы… утратили веру в политическое учение, которое они исповедуют на словах». Главную озабоченность автора вызывает возникающая в условиях чистой демократии опасность для свободы личности, исходящая от доминирующих в обществе средних классов: с одной стороны, посредственное умственное развитие представительного собрания и контролирующего его общественного мнения, и с другой – классовый характер законодательства численного большинства, образовавшегося из этого класса. Милль ставит задачу всеобщего представительства в парламенте (а не только большинства), с тем чтобы, обеспечив права – просвещенного – меньшинства, нейтрализовать тиранию большинства.
Джон Милль
Рассуждения о представительном правлении
John Stuart Mill
Considerations on Representative Government
© ООО «ИД «Социум», оформление, 2019
* * *
Предисловие к 1-му изданию
Тот, кто уже почтил своим вниманием мои исследования, вероятно, не найдет много нового в настоящем труде, так как в нем проведены те же принципы, которые я старался установить в течение большей части моей жизни, а соответственные были практические соображения уже не раз высказаны другими или же мною самим. Новое, однако, заключается в том, что все эти принципы и соображения собраны, приведены в связь и до некоторой степени обоснованы. Во всяком случае, многие мнения, хотя и не новы, встретят и теперь столь же мало сочувствия, как и прежде.
Мне, однако, кажется, судя по некоторым признакам, в особенности судя по последним прениям о парламентской реформе, что и консерваторы, и либералы (если я могу называть их так, как они сами продолжают называть себя) утратили веру в политическое учение, которое они исповедуют на словах; но ни те, ни другие ни на шаг не подвинулись в приискании лучшего учения. Между тем оно может быть найдено; но оно не должно быть простым компромиссом между двумя партиями, а должно представлять нечто более широкое, настолько широкое, чтобы его могли принять и либералы, и консерваторы, не отрекаясь от того, что в их собственном учении действительно для них дорого. Когда многие смутно сознают необходимость в новом учении и когда очень немногие решаются похвалиться тем, что нашли его, то каждый может без сомнения предлагать то, что ему представляется лучшим в его собственных идеях и в идеях других людей и что может содействовать установлению новой доктрины.
Предисловие ко 2-му изданию
Это издание отличается от первого лишь несколькими страницами, прибавленными к VI главе, для разъяснения того, что подало повод к возражениям против защищаемого в ней плана представительства меньшинства.
Глава I. В какой мере формы правления подлежат свободному выбору?
Все рассуждения о формах правления носят на себе более или менее исключительный отпечаток двух противоположных теорий о политических установлениях или, вернее, двух различных взглядов на то, что следует понимать под политическими установлениями. По одному взгляду на дело, управление – чисто практическое искусство, к которому применим только вопрос о средствах и цели. Формы правления – не что иное, как средства для достижения человеческих целей; они зависят только от человеческой изобретательности. Так как они – дело рук человека, то предполагается, что от воли человека зависит создать ту или другую форму правления. При таком взгляде на дело правление составляет задачу, решаемую как всякий другой деловой вопрос. Прежде всего надо определить цели, которые должно осуществлять правительство; затем решить, какая форма правления наиболее пригодна для достижения этой цели. Выяснив эти два вопроса и определив, какая форма правления совмещает в себе наибольшую сумму добра и наименьшую сумму зла, мы должны еще заручиться одобрением наших соотечественников или тех, для которых данные установления предназначены. Найти наилучшую форму правления, убедить других, что она действительно наилучшая, и побудить их добиваться ее – вот какой процесс происходит в уме людей, придерживающихся этой политической философии.
Для них конституция представляет такой же интерес, как какой-нибудь плуг или молотилка, – вся разница только в степени.
Иначе смотрят на дело политические мыслители, которые так далеки от отождествления формы правления с машиной, что смотрят на нее как на нечто самозарождающееся, а на политическую науку – как на отрасль естествознания. По их мнению, формы правления не подлежат выбору. Их надо брать такими, какими они сложились. Правительства не могут быть организованы по заранее намеченному плану: они «не создаются, а сами возникают». Наше дело по отношению к ним, как и по отношению ко всем другим явлениям мировой жизни, – изучать присущие им свойства и приспособиться к ним. Основные политические установления данного народа, в глазах этой школы, составляют своего рода органический продукт природы и жизни народа: его обычаев, инстинктов, бессознательных потребностей и желаний, менее всего его сознательных намерений. Народная воля проявляется только в том, что она временные нужды удовлетворяет временными средствами. Эти средства оказываются действительными, если они достаточно согласованы с национальными чувствами и характером; таким образом, путем постепенной агрегации создается правительственная система, вполне пригодная для народа, обладающего ею; но было бы тщетно навязывать ее другому народу, у которого природа и обстоятельства не содействовали ее самостоятельному возникновению.
Трудно решить, которая из этих двух доктрин нелепее, если предположить, что кто-нибудь захотел бы придерживаться одной из них исключительно. Но принципы, которых придерживаются люди в спорном вопросе, обыкновенно очень несовершенно выражают их действительные взгляды. Никто не верит, чтобы всякий народ способен был создать всякого рода установления. Как бы нас не соблазняла параллель между последними и механическими орудиями, однако очевидно, что человек даже в выборе деревянного или железного инструмента не руководствуется только тем, что инструмент этот сам по себе наилучший. Он принимает во внимание, обладает ли инструмент другими качествами, которые могли бы сделать выгодными его употребление, и в особенности обладают ли те, которые будут им пользоваться, необходимыми знаниями и сноровкой. С другой стороны, те, кто признает государственные установления своего рода живыми организмами, на самом деле вовсе не такие политические фаталисты, какими они себя выдают. Они не утверждают, что человечеству не предоставлено никакого выбора относительно формы правления, которой оно желало бы подчиниться или что при решении вопроса о преимуществах той или другой вовсе не должны приниматься во внимание последствия, вытекающие из них. Несмотря на то, что каждая сторона, из духа оппозиции, сильно преувеличивает свою собственную теорию и никто не придерживается этих теорий в их безусловной форме, обе они, однако, соответствуют глубокому различию между двумя политическими миросозерцаниями. Далее, хотя, очевидно, ни одна из них не может быть признана истинной, с другой стороны столь же очевидно, что ни одна из них не может быть признана вполне ложной, и нам предстоит исследовать каждую из них в самом ее основании и воспользоваться той долей истины, которая заключается в них.
Итак, вспомним прежде всего, что политические установления (хотя это, может быть, иногда игнорируется) дело рук человеческих, и что они обязаны своим происхождением и своим существованием человеческой воле. Люди не нашли их в одно прекрасное утро готовыми. Не похожи они и на деревья, которые, будучи раз посажены, «всегда растут», между тем как люди «спят». Во всякий период их существования сознательное вмешательство человека изменяет их в том или другом направлении. Поэтому, как все дела рук человеческих, они могут быть хорошо или дурно организованы, смотря по тому, насколько при создании их действовали сообразительность и искусство. Наконец, если какой-нибудь народ не позаботился или внешнее давление ему помешало выработать в себе государственный строй путем устранения зла по мере того, как оно возникало, или как пострадавшие от него приходили к сознанию своей силы, то это замедление политического прогресса несомненно представляет большое несчастие для него, но еще не служит доказательством, что формы, пригодные для других, не пригодны или окажутся непригодными для него, когда ему заблагорассудится принять их.
С другой стороны, нужно также иметь в виду, что политический механизм не действует сам собою. Он возник при помощи людей и должен приводиться в действие людьми, да к тому же еще самыми обыкновенными. Он нуждается не только в простом их одобрении, но и в деятельном участии, и должен быть приноровлен к способностям и качествам людей, для которых он предназначен. Это предполагает три условия. Народ, для которого предназначена форма правления, должен сочувствовать ей, или, если не сочувствовать, то по крайней мере не ставить непреодолимых препятствий ее установлению. Он должен желать и быть способным оказывать ей поддержку и исполнить все, что требуется для того, чтобы она могла достичь своей цели. Под исполнением надо подразумевать как действие, так и воздержание от него. Народ должен быть способен выполнить условия действия и условия самоограничения, необходимые как для поддержания установленного политического строя, так и для осуществления его целей, потому что его соответствие с ними составляет его достоинство.
При отсутствии одного из этих трех условий формы правления, что бы ни сулила последняя в других отношениях, она непригодна для данного случая.
Первое препятствие, т. е. несочувствие народа, не нуждается в пояснениях, потому что в теории оно никогда не могло быть упущено из виду. С фактом несочувствия постоянно приходится встречаться. Ничто, кроме внешней силы, не могло заставить североамериканских индейцев подчиниться ограничениям организованного политического строя. То же самое, хотя и в менее решительной форме, можно сказать и о варварах, которые наводнили Римскую Империю. Потребовались века и полное изменение условий, чтобы они привыкли к правильному подчинению даже собственным вождям, когда они не состояли непосредственно под их начальством. Есть нации, которые добровольно не подчиняются никакому правительству, кроме правительства известных фамилий, с незапамятных времен имевших привилегию давать им вождей. Другие, если только они не вынуждены были покориться чужеземным завоевателям, никогда не соглашались признать монархию или же республику. И это отвращение бывает так сильно, что по крайней мере в данное время несимпатичная форма правления не может быть осуществлена.
Но бывают и такие случаи, когда народ, хотя и не противится известной форме правления, – может быть, даже желает ее, – однако не расположен или неспособен выполнить даже такие требования, которые необходимы для ее номинального существования. Так, народ может предпочитать свободную форму правления; но если он вследствие нерадения, беззаботности, малодушия, недостатка духа общественности, неспособен к усилиям, необходимым для ее сохранения; если он не хочет бороться за нее, когда ей угрожает непосредственная опасность; если у него можно отнять ее хитростью; если в момент отчаяния, или временной паники, или в порыве увлечения он может сложить свою свободу у ног хотя бы великого человека, или облечь его властью, которая дает ему возможность ниспровергнуть свободные установления, – то во всех этих случаях народ более или менее не дорос до свободы, и хотя кратковременное пользование ею могло послужить ему ко благу, однако долго свобода при таких условиях продержаться не может. Затем, народ может не иметь охоты или быть неспособным к исполнению обязанностей, налагаемых на него известной формой правления. Варварский народ, хотя до известной степени и восприимчивый к преимуществам цивилизованного строя, может быть неспособным к самоограничению, которого он требует. Его страсти могут быть слишком необузданны, личная гордость слишком непреклонна, чтобы он мог воздержаться от частных столкновений и предоставить закону мстить за причиненные ему действительные и мнимые обиды. В подобном случае, чтобы культурное правительство могло действительно быть полезным, оно должно иметь в значительной степени характер абсолютный, т. е. не допускать над собою контроля и сильно ограничивать влияние народа.
Далее, народ, который не хочет активно содействовать закону и властям в преследовании преступников, может пользоваться только ограниченной свободой. Если народ более расположен скрывать преступника, чем преследовать его; если он, подобно индусу, готов принести ложную присягу, чтобы спасти ограбившего его человека, вместо того, чтобы возбудить против него преследование и тем навлечь на себя его месть; если, как это еще случается у некоторых европейских народов, всякий спешит перейти на другую сторону улицы, когда увидит, что среди белого дня совершается убийство, потому что это касается полиции и благоразумнее не вмешиваться не в свои дела, наконец, если народ возмущается казнью, но безразлично относится к убийству, – то ему нужны общественные власти с более широкими полномочиями, чем в других странах: у него, значит, не обеспечены основные и самые необходимые условия цивилизованной жизни. Столь слабое развитие общественности у народа, вышедшего из состояния дикости, несомненно, чаще всего бывает результатом дурного управления, которое приучило людей смотреть на закон, как на нечто созданное для каких-то других целей, но не для их блага, а на его охранителей – как на более опасных врагов, чем даже провинившихся в открытом нарушении его. Но как бы мы ни оправдывали людей, у которых сложились такие понятия, и даже если бы мы допустили, что эти понятия могут со временем измениться под влиянием хорошего управления, тем не менее, пока они существуют, народ, настроенный подобным образом, не может быть подчинен власти с такими ограниченными полномочиями, как народ, симпатии которого находятся на стороне закона и который готов энергично содействовать его исполнению.
Наконец, и представительные учреждения окажутся недействительными и будут служить лишь простым орудием тирании и интриг, если большинство избирателей так мало заинтересовано в этой форме правления, что не желает даже участвовать в выборах, или, если и подают голоса, то не руководствуются соображениями общественного блага, а продают их за деньги или вотируют по указанию лица, от которого они зависят, или того, кого они хотели бы по личным соображениям расположить в свою пользу[1 - Советуем по поводу этот частного замечания Милля, прочесть статью об общем значении представительного правления («Великая ложь нашего времени»), помещенную в «Московском Сборнике» (М.: Изд. К. П. Победоносцева, 1896. С. 31–52). – Изд.]. Такого рода избирательные собрания вместо того, чтобы служить действительной гарантией против дурного управления, чаще всего бывают только придаточным колесом в его механизме. Помимо такого рода моральных препятствий, часто и механические трудности служат непреодолимой преградой к установлению известной формы правления. Хотя в древности могла встречаться и действительно встречалась значительная личная независимость; но вне городской общины правильно организованное народное правление было немыслимо, потому что физические условия, необходимые для установления общественного мнения, встречались только там, где граждане могли собираться для обсуждения общественных дел на одной агоре[2 - У древних греков место народных собраний; также название самих народных собраний.]. Вообще, полагают, что это препятствие исчезает, как только установлена представительная система. Но чтобы его вполне устранить, необходима печать, преимущественно журналистика, – это единственная, хотя и во многих отношениях несовершенная заместительница пникса и форума. При известных общественных условиях даже более или менее обширная монархия не могла тогда существовать, и неминуемо должна была дробиться на мелкие владения, или совершенно независимые друг от друга, или связанные между собою слабыми узами наподобие феодальных отношений, потому что правительственный механизм был недостаточно совершенен для приведения в исполнение приказаний центральной власти на значительных расстояниях. Даже повиновение со стороны армии обусловливалось только ее доброй волей, и не было средств заставить народ вносить сумму налогов, достаточную для содержания войска, обеспечивавшего порядок на обширной территории. Само собой разумеется, что во всех подобных случаях препятствия могут быть более или менее разнообразные. Они могут быть так значительны, что данная форма правления плохо функционирует, что, впрочем, не исключает безусловно возможности ее существования и не мешает отдавать ей на практике предпочтение перед другой. Это уже зависит от соображения, которого мы еще не коснулись, – именно от того, в какой мере различные формы правления могут содействовать прогрессу.
Мы рассмотрели три основные условия, необходимые для того, чтобы форма правления могла быть применена к народу, для которого она предназначена. Если сторонники политической теории, которую можно назвать натуралистической, настаивают только на необходимости этих трех условий; если они только утверждают, что никакое правительство не может быть прочно, если оно не выполняет первого и второго условий и в значительной степени третьего, то с такими ограничениями их доктрина неоспорима. Но когда ей придают более широкое значение, она мне кажется несостоятельной. Все, что говорят о необходимости исторических основ для государственных установлений, о согласовании их с народными обычаями и характером и т. п., сводится только к этому, или же не имеет значения.
Подобные фразы всегда содержат в себе значительную долю сентиментализма, затемняющего их здравое идейное содержание. Но с точки зрения практической, приписываемые политическим установлениям свойства только облегчают осуществление упомянутых трех условий. Если какое-нибудь установление или совокупность установлений находит для себя уже подготовленную почву в воззрениях, вкусах и обычаях народа, то последний не только охотнее принимает их, но легче осваивается с ними и с самого начала бывает более расположен делать все, что требуется, как для сохранения установления, так и для нормального его функционирования. Со стороны законодателя было бы большой ошибкой, если б он не воспользовался, по возможности, существующими обычаями и чувствами в своих мероприятиях. С другой стороны, было бы преувеличением признавать необходимым условием то, что составляет только поддержку и облегчение. Люди охотнее исполняют то, к чему они привыкли; но они постепенно привыкают делать и то, что для них еще ново. Привычка, конечно, много значит, но, часто сталкиваясь с известной идеей, мы привыкаем к ней, хотя она в начале нам и казалась чуждой. Существует немало примеров, когда целый народ охватывала жажда новизны. Мера прирожденной восприимчивости народа к новизне и способности приспособляться к новым условиям сама по себе составляет уже одну из существенных сторон вопроса. Эта способность далеко не равномерно развита у разных наций и на различных ступенях цивилизации. Вопрос о способности народа примениться к данной форме правления невозможно решить на основании какого-нибудь поверхностного принципа. Единственным верным мерилом в подобных случаях может быть только знакомство с народом, равно как общий практический смысл и проницательность. Не следует также упускать из виду следующее соображение. Народ может быть не подготовлен для хороших установлений; но расположение к ним должно быть необходимым условием этой подготовки. Рекомендовать и защищать известное установление или форму правления, выставлять в ярком свете их преимущества, вот один из способов, и часто единственно возможный – подготовить мысль народа не только к принятию или требованию данных установлений, но и к осуществлению его в жизни. Каким средством располагали итальянские патриоты прошлого и настоящего поколений, чтобы подготовить итальянский народ к свободе и объединению, кроме поощрения требовать их? Однако те, кто берется за такую задачу, должны уяснить себе не только преимущества данного установления или данных политических форм, но равным образом и нравственные, умственные и активные способности, необходимые для приведения их в действие, чтобы, если это возможно, предупредить желания, не соответствующие способностям народа.
Вывод из всего сказанного тот, что в границах упомянутых трех условий установления и формы правления составляют предмет, подлежащий выбору. Исследовать, так сказать, абстрактно вопрос о наилучшей форме правления – не праздное времяпрепровождение, но в высшей степени плодотворная задача для научного ума; ввести в какую-либо страну лучшие установления, которые при данном ее состоянии могли бы сносно удовлетворять требуемым условиям – это одна из разумнейших задач практической политики.
Человеческая воля имеет в деле управления такое же значение, как и во всяком другом деле, т. е. очень ограниченное. Человеческая воля может действовать только при помощи одной или нескольких сил природы. Следовательно, и необходимые для желаемой цели силы должны существовать, и они будут действовать только согласно своим собственным законам. Мы не можем заставить реку течь в обратном направлении, но тем не менее мы не скажем, что водяные мельницы «не строятся, а сами вырастают». В политике, как и в механике, силу, которая приводит машину в действие, надо искать вне механизма, и если ее нет или ее недостаточно для преодоления могущих встретиться препятствий, то и механизм окажется бесполезным. Этот вовсе не особенность политического искусства, но означает только, что оно подчинено тем же ограничениям и условиям, как и все другие искусства.
Здесь мы встречаемся с другим возражением, или, вернее, с тем же возражением, но только иначе сформулированным. Силы, говорят нам, от которых зависят наиболее крупные политические явления, не подчиняются политикам или философам. Правление страны, говорят нам, в наиболее существенных отношениях заранее определено и обусловлено состоянием страны с точки зрения распределения в ней общественных сил. Какова бы ни была преобладающая сила в обществе, но она сосредоточит правительственную власть в своих руках; а перемена в политическом строе не может быть устойчива, если ей не предшествовало или ее не сопровождало соответственное изменение в распределении общественных сил. Поэтому нация не может выбирать себе форму правления. Предметом выбора могут быть только детали и практическая организация; что же касается сущности целого, организации верховной власти, то они определяются социальными условиями.
Я допускаю, что в этом учении есть доля истины; но чтобы извлечь из нее какую-нибудь пользу, надо точнее его формулировать и указать его границы. Что означает слово сила, когда говорят, что самая могущественная общественная сила будет вместе с тем и самой могущественной в деле управления? Не мускульная же и не нервная; в противном случае чистая демократия была бы единственно возможной формой правления.
Присоединим к чисто мускульной силе два других элемента – богатство и умственное развитие, и мы будем ближе к истине, но еще далеки от полного преобладания ею. Большинство не только часто подчинено меньшинству; но на его стороне может быть перевес в имущественном и умственном отношении, и тем не менее оно может находиться в подчинении, принудительном или ином, у меньшинства, в том и другом отношении стоящего ниже его. Чтобы все эти разнообразные элементы могли получить политическое значение, они должны быть организованы; и лучше организованными неизбежно оказываются те, в чьих руках находится правительственная власть. Партия, слабейшая с точки зрения всех других элементов силы, может получить значительный перевес, когда правительственная власть брошена на весы, и уже в силу одного этого она может надолго сохранить преобладающее влияние, хотя без сомнения подобное правительство находится в положении, которое называется в механике неустойчивым равновесием, – в положении предмета, который держится в равновесии на своем более тонком конце, и, раз уклонившись от него, стремится все более и более удаляться от своего прежнего положения, вместо того, чтобы возвращаться к нему.
Но есть еще более серьезные возражения против этой политической теории, как она обыкновенно формулируется. Всякая общественная сила, стремящаяся стать политической, не инертна, не чисто пассивна; это – активная сила, другими словами, имеющая действительное применение и составляющая очень ничтожную часть существующих сил. Выражаясь политическим языком, мы можем сказать, что значительная часть всякой силы заключается в воле. Можно ли после этого при оценке элементов политической власти не принимать во внимание тех из них, которые действуют на волю? Предполагать, что надо пользоваться влиянием в обществе, чтобы обладать влиянием в правительстве, что поэтому совершенно бесполезно стараться воздействовать на политический строй при помощи общественного мнения – значит упустить из виду, что общественное мнение само по себе одна из величайших активных общественных сил. Человек с убеждениями составляет социальную силу, равную девяносто девяти, у которых есть только интересы. Тот, кто может убедить общество, что известная форма правления или общественный факт заслуживают предпочтения пред другими, совершает почти самый важный шаг, какой только может сделать для того, чтобы расположить общественные силы в его пользу. В тот день, когда первый мученик был побит камнями в Иерусалиме, а тот, кому суждено было сделаться апостолом язычников, стоял тут же, «допуская его смерть», можно ли было предположить, что партия этого побитого камнями человека была в то время и в той местности самой значительной общественной силой? И не подтверждено ли это дальнейшими событиями? Люди эти были силой, потому что их убеждения были сильны. По той же причине веттенбергский монах на Вормском соборе оказался более могущественной общественной силой, чем сам император Карл V со всеми имперскими чинами. Но, скажут нам, все это случаи, которые касаются религии, а религиозные убеждения обыкновенно особенно сильны. Возьмем же чисто политический пример, где хотя религия и замешана, но была на стороне потерпевшей. Чтобы убедиться в том, что отвлеченная мысль составляет один из главных элементов социальной силы, достаточно вспомнить о прошлом веке, когда почти не было трона в Европе, на котором не восседал бы король или император или, что еще более удивительно, папа, либерально настроенный и склонный к реформам, о веке Фридриха Великого, Екатерины II, Иосифа II, Петра Леопольда, Бенедикта XIV, Ганганелло, Помбаля, д’Аранды; когда общее течение увлекло даже неаполитанских Бурбонов, когда все деятельные умы среди французской аристократии были проникнуты идеями, сильно гибельными для них впоследствии. Этот пример лучше всего доказывает, что физической и экономической силой далеко не исчерпывается все общественное влияние. Не изменением материальных интересов, но распространением нравственных идей был положен конец торговле неграми в Британской Империи и в других странах. Крепостные в России обязаны своим освобождением если не чувству долга, то по крайней мере распространению более просвещенного взгляда на истинные интересы государства. Наши поступки обусловливаются нашими мыслями, и хотя убеждения средних людей определяются скорее их личным положением, чем разумом, но не меньшее влияние имеют над ними убеждения тех, личное положение которых разнится от их собственного, равно как и совокупный авторитет всех просвещенных людей. Поэтому, когда удается убедить большинство образованных людей в том, что такой-то социальный или политический строй хорош, а такой-то дурен, или что один желателен, а другой нежелателен, то уже много сделано, чтобы упрочить первый. Таким образом принцип, в силу которого правительство данной страны должно соответствовать существующим общественным силам, оправдывается лишь настолько, насколько он благоприятствует, но не насколько он препятствует разумному выбору между всеми формами правления, возможными при данном состоянии общества.
Глава II. Критерий хорошей формы правления
Так как форма правления данной страны подлежит до известной степени свободному выбору, то теперь надо выяснить, чем мы должны руководствоваться при этом выборе, каковы отличительные особенности формы правления, наиболее соответствующие интересам данного общества.
Прежде чем приступить к решению этого вопроса, повидимому, необходимо выяснить, каковы настоящие функции правительства; ибо если управление составляет только средство, то выбор средства должен зависеть от степени пригодности его для достижения намеченной цели. Но такая постановка вопроса гораздо менее облегчает его исследование, чем можно предполагать, и даже не выясняет вопроса во всем его объеме. Во-первых, потому, что правительственные функции не суть нечто неизменное, но бывают различны при различном состоянии общества, – они обширнее у остальных народов, чем у передовых. Во-вторых, характер какого-нибудь правительства или совокупности политических установлений не может быть правильно оценен, если мы ограничимся исследованием законной сферы правительственных функций. Благотворное влияние правительства по необходимости ограничено этой сферой, но, к сожалению, нельзя того же сказать о неблагоприятном его влиянии. Всякого рода зло, какое только бывает уделом человека, может быть на него навлечено правительством, и человек не может извлечь из общежития ни одного из связанных с ним выгод, если только это противоречит основным законам государства и если эти законы не позволяют ему пользоваться ими. Не говоря уже о косвенных влияниях, непосредственное вмешательство властей может охватить всю жизнь человека; и их влияние на благосостояние общества должно быть рассматриваемо и оценено только по отношению ко всей совокупности интересов человечества.
Таким образом, мы вынуждены остановиться на таком сложном предмете, как совокупность интересов общества. Мы попытаемся распределить их по категориям, чтобы лучше выяснить свойства, необходимые данной форме правления для того, чтобы они лучше могли содействовать соответственной группе разнообразных интересов. Вопрос упростился бы значительно, если бы можно было сказать, что благосостояние общества состоит из таких-то и таких-то элементов, что одни из них требуют таких-то условий, а другие – других, и что поэтому форма правления, соединяющая в себе все эти условия в высшей мере, должна считаться наилучшей. Таким образом, можно было бы построить теорию хорошего правительства, соединив из отдельных теорий оба элемента, создающих благосостояние общества.
Но, к несчастью, перечислить и распределить все составные элементы общественного благосостояния – дело нелегкое. Почти все, кто последнее время занимался политической наукой с более или менее широкой точки зрения, чувствовал важность подобной классификации. Но сделанные до сих пор в этом направлении попытки остановились, насколько мне известно, на первом шаге. Классификация обыкновенно начинается и кончается распределением общественных потребностей по двум главным рубрикам порядка и прогресса (по фразеологии французских мыслителей); покоя и движения, по терминологии Кольриджа. Это разделение кажется удовлетворительным и заманчивым, вследствие представляемой этими двумя рубриками, на первый взгляд, ясной противоположностью и замечательным различием вызываемых ими чувств. Но я полагаю, что различия между порядком или покоем и прогрессом неточно и недостаточно научно (хотя оно допустимо в разговорной речи), если его употреблять для определения необходимых правительству свойств.
Прежде всего, что такое порядок и что такое прогресс? По отношению к прогрессу, сомнений не может быть, по крайней мере, на первый взгляд. Когда говорят о прогрессе, как об одной из потребностей человеческого общества, то под ним подразумевают совершенствование. Это еще довольно ясная идея. Но что такое порядок? Это слово означает то нечто большее, то нечто меньшее, но почти всегда совокупность всего того, в чем нуждается человеческое общество помимо совершенствования.
В самом тесном значении слова, порядок означает повиновение. О правительстве говорят, что оно охраняет порядок, когда ему удается держать народ в повиновении. Но есть различные степени повиновения, и не все они одинаково похвальны. Один только голый деспотизм может требовать от граждан безусловного повиновения всякому распоряжению, исходящему от какого бы то ни было носителя власти. Мы должны по крайней мере ограничить его значение теми из этих распоряжений, которые носят характер общих постановлений и изданы в форме, предусмотренной для законов. Порядок, понимаемый в этом смысле, составляет, несомненно, одну из необходимых принадлежностей всякого правления. Собственно говоря, власть, которая не умеет заставить повиноваться своим распоряжениям, не управляет. Но хотя порядок – необходимое условие всякого правления, он не составляет его цели. Правительство должно требовать повиновения, чтобы достигнуть другой цели. Мы должны, следовательно, еще рассмотреть, какова эта другая цель, помимо идеи усовершенствования, к которой должно стремиться правительство во всяком обществе, будь оно консервативным или прогрессивным.
В более широком смысле слово порядок означает, что общественное спокойствие не нарушается уже никаким частным насилием. Говорят, что порядок существует там, где вообще народ перестал разрешать свои ссоры самосудом и выработал привычку обращаться к правительству для решения своих тяжб. Но и в этом более широком значении слова, как и в прежнем более тесном, порядок является скорее одним из необходимых условий управления, чем его целью или признаком его превосходства. Привычка подчиняться правительству и обращаться к власти во всяком спорном деле может быть глубоко укоренена, а между тем способы, которыми правительство решает спорные и всякие другие дела, подлежащие его ведению, могут быть чрезвычайно разнообразны: и превосходны, и ниже всякой критики.
Если под порядком разуметь все, что общество требует от правительства, но что не содержится в понятии прогресса, то мы должны будем признать, что порядок есть охранение всякого существующего добра, а прогресс состоит в увеличении суммы этого добра. Эти две рубрики охватывают все, в чем можно требовать содействия от правительства. Но при таком разграничении мы не получим базиса для философии и политики. Мы не можем сказать, что, учреждая новую форму правления, нужно такие-то меры принять в интересах порядка, а такие-то – в интересах прогресса, так как в только что указанном смысле условия порядка и прогресса не противоположны друг другу, но сходны между собой. В самом деле, то, что служит к сохранению уже существующего общественного добра, совершенно тождественно с тем, что способствует его увеличению, и наоборот, с той только разницей, что для последней цели требуется гораздо больше деятельных сил, чем для первой.
Какие, например, личные качества граждан наиболее способствуют сохранению существующего уже в обществе благонравия, хорошего управления, преуспеяния и благосостояния? Каждый согласится, что эти качества – трудолюбие, честность, справедливость и благоразумие. Но не эти ли качества более всего ведут к прогрессу? Не составляет ли развитие этих добродетелей само по себе уже самый существенный прогресс? Если это так, то форма правления, содействующая трудолюбию, честности, справедливости и благоразумию, способствуют одновременно порядку и прогрессу: только для того, чтобы сделать известное общество прогрессивным, этих качеств требуется в гораздо большей мере, чем для того, чтобы удержать его на том уровне, какого оно уже достигло.
Как, с другой стороны, особенные свойства человеческой природы имеют наиболее близкое отношение к прогрессу и более отдаленное отношение к понятиям порядка и консерватизма? Свойства эти главным образом – умственная деятельность, предприимчивость и мужество. Но разве эти качества не требуются в одинаковой степени как для сохранения известного блага, так и для приобретения нового? Одно несомненно в человеческих делах, именно, что значительные успехи могут быть устойчивы только в том случае, если общество охраняет их с такой же энергией, с какой оно их достигло. То, что предоставлено самому себе, то неминуемо погибает. Если под влиянием удач ослабевает заботливость, предусмотрительность, готовность идти навстречу всевозможным препятствиям, то произойдет по большей части регресс. Умственные качества, которые, повидимому, направлены к достижению прогресса и составляют верх стремлений к нему, это – оригинальность и изобретательность. Однако эти качества не менее необходимы для устойчивости, так как при неизбежной изменчивости человеческих дел постоянно возникают новые недостатки и новые опасности, которые нужно устранить новыми средствами и мероприятиями для того только, чтобы сохранить то, что уже достигнуто. Таким образом, в делах управления все качества, содействующие развитию активности, энергии, мужества, оригинальности, одинаково необходимы как для устойчивости, так и для прогресса; только для второго они требуются в несколько большей степени.
Если теперь перейти из области духовных явлений в область внешних и так сказать предметных явлений, то можно указать на такую политическую или общественную организации, которые привели бы только к сохранению порядка, или только к прогрессу; все, что направлено к одному, ведет и к другому. Возьмите для примера полицию, как она обыкновенно организована: повидимому, главная задача ее исчерпывается охранением порядка. Однако, если полиция успешно охраняет порядок, т. е. если она подавляет преступления и обеспечивает личную и имущественную безопасность, то разве может что-либо более способствовать прогрессу? Наибольшая обеспеченность собственности является одним из главных условий и одной из главных причин процветания производства, а это и есть прогресс, как его обыкновенно понимают. Более совершенное подавление преступлений уменьшает и склонность к преступлению, что составляет прогресс в несколько отвлеченном значении слова. Личность, освободившись от забот и беспокойств, обусловливаемая неуверенностью в своей безопасности, может применять свои способности к улучшению как своей собственной участи, так и участи других; между тем как та же причина, привязывая человека к общественной жизни и отучая его видеть в ближнем настоящего или будущего врага, развивает все те чувства доброжелательства и товарищества и интерес к общему благосостоянию, которые играют такую важную роль в социальном прогрессе.
Возьмем еще более знакомый пример – хорошую систему налогов и финансов. Обыкновенно ее отнесли бы к области порядка. Однако может ли что-либо больше содействовать прогрессу? Финансовая система, способствующая первому, в силу тех же качеств, ведет и ко второму. Задача, например, экономической политики заключается не только в том, чтобы сохранить народное имущество, но и чтобы его увеличить. Справедливое распределение налогов, представляя гражданину пример нравственности и добросовестности в труднейших делах, равно как доказательство того значения, какое высшие власти придают этим качествам, значительно содействуют установлению в обществе сильного и сознательного нравственного чувства. Такой способ взимания налогов, не отрывающий гражданина от его обычных занятий и не стесняющий без надобности его свободы, способствует не только сохранению, но и увеличению народного богатства и поощряет к более деятельному применению индивидуальных способностей. Наоборот, все финансовые ошибки, препятствующие преуспеянию народа в материальном и нравственном отношении, ведут к его обеднению и деморализации, если они значительны. Вообще, если понимать слова порядок и устойчивость в их самом широком смысле, т. е. в смысле сохранения достигнутого, то мы будем предъявлять прогрессу те же требования, как и порядку, только в большей степени, а порядку – те же требования, как и прогрессу только меньшей степени.
В подтверждение мысли, что порядок по существу отличается от прогресса и что сохранение существующего и приобретение нового блага – понятия настолько различные, что служат базисом для коренной классификации, могут сослаться на то, что прогресс совершается часто в ущерб порядку, другими словами, что приобретая или стараясь приобрести известное благо, мы можем утратить одновременно другие. Так, например, материальный прогресс может сопровождаться понижением уровня нравственности. Соглашаясь с этим, мы должны, однако, сделать не тот вывод, что прогресс и устойчивость – две совершенно различные вещи, а что богатство и нравственность не совпадают. Прогресс – устойчивость и нечто сверх того, и это не опровергается мыслью, что прогресс в том или другом отдельном случае обусловливает собою устойчивость во всех других случаях. Равным образом прогресс в одном случае не обусловливает прогресса во всех остальных. Прогресс в данном случае обусловливает и устойчивость в том же случае: всякий раз, когда устойчивость приносится в жертву прогрессу в каком-нибудь случае – вместе с тем приносится в жертву и вообще прогресс; а если жертва оказалась напрасной, то этим нарушены не только интересы устойчивости, но и общие интересы прогресса.
Поэтому лучше отказаться от этих неверно противопоставленных понятий. Но если уже воспользоваться ими для того, чтобы научно установить понятие о хорошей форме правления, то философски было бы правильнее оставить без определения слово порядок, и сказать, что лучшая форма правления та, которая более всего ведет к прогрессу. Ибо прогресс предполагает порядок, но порядок не предполагает прогресса. Прогресс представляет собой высшую степень, а порядок низшую степень одного и того же явления. Порядок во всяком другом смысле представляет только часть тех качеств, которые требуются от хорошего правительства: он не составляет ни его идеи, ни его сущности. Порядок – скорее условие прогресса, так как, если мы желаем увеличить сумму нашего благосостояния, то прежде всего нам следует позаботиться о сохранении того, что мы уже имеем. Если мы хотим приобрести новые богатства, то первым правилом должно быть не растрачивать бесполезно имеющегося у нас добра. В этом смысле порядок не есть второстепенная цель, которую нужно примирить с прогрессом, но только часть и орудие самого прогресса. Если выигрыш в одном случае вызывается более значительной потерей в том же или в других случаях, то прогресса никакого нет. В стремлении к такому прогрессу заключаются все достоинства хорошей формы правления.
Но и такое определение критерия хорошей формы правления, основательное с метафизической точки зрения, непригодно для нас, потому что хотя в нем и содержится вся истина, но оно напоминает нам только об одной части ее. Со словом прогресс связывают идею о движении вперед, между тем как в том смысле, в каком мы его употребляем, оно означает и воспрепятствование к движению назад. Те же самые общественные причины, те же верования, чувства, учреждения и мероприятия, какие требуются для того, чтобы помешать регрессу, необходимы и для прогресса. Если бы даже невозможно было рассчитывать ни на какое улучшение, тогда жизнь была бы в той же степени, как и теперь, беспрерывной борьбой с разрушительными началами. Политика, как ее понимали древние, заключалась только в этом. Сам человек и все, что он делает, склонно постепенно вырождаться; однако это естественное стремление можно приостановить на более или менее продолжительное время при помощи целесообразных установлений. Хотя мы уже не придерживаемся этого взгляда и хотя большинство людей в настоящее время сочувствуют противоположной доктрине, полагая, что все стремится к совершенствованию, но не следует забывать, что в человеческих делах есть какая-то постоянная склонность к дурному, проявляющаяся во всевозможных безумиях, пороках, нерадении, лени и беспечности, и что единственным противовесом этому общему течению служат постоянные или временные усилия некоторых лиц, воодушевленных желанием добра. Полагать, что главное значение этих условий заключается в вызываемых ими действительных улучшениях и что их отсутствие имело бы последствием только то, что мы вернулись бы к прежнему состоянию, значит обнаруживать очень слабое понимание значения усилий, направленных к усовершенствованию человеческой природы и жизни. Самое слабое уменьшение этих условий не только остановило бы всякий прогресс, но вызвало бы общее стремление к регрессу. Этот регресс, раз начавшись, будет совершаться с постоянно возрастающей быстротой и задержать его окажется все труднее и труднее, пока не получится такого часто встречающегося в истории состояния, в котором до сих пор прозябает значительная часть человечества, когда, кажется, только нечеловеческая сила способна переменить течение и направить его снова по пути прогресса.
По этим соображениям слово прогресс столь же мало может служить основанием для классификации необходимых свойств формы правления, как и термины порядок и устойчивость. Коренная противоположность, выражаемая этими терминами, заключается не столько в самой сущности вещей, сколько в типах соответствующего ей человеческого характера. В одних характерах, как известно, преобладает осторожность, в других – смелость; в одних желание не подвергать опасности того, чем они уже обладают, сильнее, чем чувство, побуждающее их к усовершенствованию старого и к приобретению новых благ; наконец, есть и такие, которые избирают противоположный путь, более заботясь о будущем, чем о настоящем. В общих случаях путь, ведущий к цели, один и тот же; но людям приходится удаляться от него в противоположных направлениях. Это особенно важно при подборе личного состава какой-нибудь политической корпорации; для того, чтобы крайние стремления одних уравновешивались стремлениями других, в нее должны входить представители обоих типов. В этих видах не надо принимать никаких особых мер; достаточно позаботиться о том, чтобы не допустить ничего такого, что препятствовало бы достижению основной цели. Естественное соединение молодых и стариков, людей с установленным общественным положением и таких, которые только еще к нему стремятся, может в общем удовлетворить этой цели, если только это естественное равновесие не будет искусственно нарушено законом.