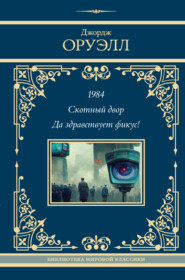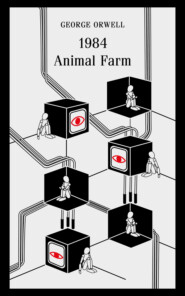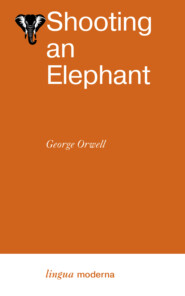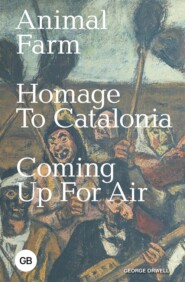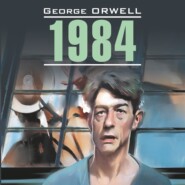По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения. 1984. Скотный двор. Воспоминания о войне в Испании. Иллюстрированное издание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сочинения. 1984. Скотный двор. Воспоминания о войне в Испании. Иллюстрированное издание
George Orwell
Первые полвека после публикации антиутопия Оруэлла «1984» воспринималась как злая сатира на коммунистические режимы.
Но, увы, пророческие детали мира «1984» всё больше и больше становятся реальностью современного как бы декоммунизированного мира.
Фантастические реалии, придуманные Джорджем Оруэллом для Британии 1984 года, давно вошли в культурный код современного человека, зависимого от глобальных корпораций, социальных сетей и медиа.
* * *
«Скотный двор» Оруэлла – притча, полная горькой иронии и сарказма. Трагичная история сообщества животных, решившихся избавиться от угнетения людьми, но в результате попавшего под изуверскую власть свиней.
В повести Оруэлл показал перерождение революционных принципов и программ, то есть постепенный переход от идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. «Скотный двор» – притча, аллегория на революцию 1917 года и последующие события в России.
* * *
«Воспоминания о войне в Испании» – очерк о гражданской войне между испанскими левыми и фашистами, в котором Оруэлл предупреждает об опасности наступающего тоталитаризма, утверждающегося во многом благодаря манипуляциям, пропаганде и трусливому соглашательству либералов. Это страстный антивоенный, гуманистический призыв писателя, содержащий идеи, которые развились в художественных произведениях, представленных в этом сборнике.
Джордж Оруэлл
СОЧИНЕНИЯ
1984
СКОТНЫЙ ДВОР
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ В ИСПАНИИ
1984
Часть первая
Глава 1
Был ясный холодный апрельский день, часы показывали ровно тринадцать ноль-ноль. Уинстон Смит, зарывшись в свой воротник так, что подбородок почти касался его груди, в надежде поскорее спастись от мерзкого колючего ветра быстро проскользнул через стеклянные двери многоэтажного жилого дома «Победа», хоть и недостаточно быстро, потому что вихрь зернистой пыли протиснулся в помещение вместе с ним.
В парадном пахло вареной капустой и старыми половиками. На стене висел цветной плакат, слишком большой для такого помещения. С плаката смотрело громадное, шириной более метра, лицо человека лет сорока пяти с густыми черными усами, грубое, но по-своему красивое. Уинстон сразу направился к лестнице. Пробовать вызвать лифт было бесполезно. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас электричество стали вообще отключать в дневное время. Это было частью кампании по экономии средств для подготовки к Неделе ненависти. До квартиры предстояло преодолеть целых семь пролетов. Уинстону было тридцать девять лет, и его мучила варикозная язва над правой лодыжкой, поэтому он шел медленно, несколько раз отдыхая по дороге. На каждом этаже напротив шахты лифта со стены на него смотрел плакат с огромным лицом. Это была одна из тех иллюстраций, которые сделаны так, что кажется, будто глаза следят за тобой, в какую бы сторону ты ни пошел. Большими буквами на плакате было написано: «БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ».
В квартире бархатный голос зачитывал сводку с какими-то цифрами, имевшими отношение к производству чугуна. Голос исходил из продолговатой металлической пластины, похожей на тусклое зеркало, которая была встроена в стену с правой стороны. Уинстон повернул переключатель, и голос стал тише, хотя слова все еще были слышны довольно четко. Этот аппарат (он назывался телеэкран) можно было затемнить, но полностью выключать запрещено. Уинстон подошел к окну: невысокий худощавый человек, чье нескладное телосложение еще больше подчеркивал синий комбинезон – обязательная униформа всех партийцев. Волосы у него были совсем светлые, а румяное от природы лицо шелушилось из-за жесткого мыла, тупых бритв и холода только что закончившейся суровой зимы.
Даже через закрытое окно он чувствовал холод, которым был окутан мир снаружи. На улице небольшие порывы ветра кружили вихрями пыль и рваную бумагу, и хотя светило солнце, а небо было ярко-голубым, бесцветным казалось все, кроме развешанных повсюду плакатов. Лицо с черными усами покровительственно наблюдало со всех сторон. Один из плакатов висел прямо напротив его дома. «БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ» – гласила надпись на нем, а темные глаза смотрели прямо в глаза Уинстона. Внизу возле тротуара висел другой плакат, правда, один из его уголков отклеился, и он судорожно трепыхался на ветру, попеременно то пряча, то показывая единственное слово «ангсоц». Вдалеке между крышами пролетел вертолет, на мгновение он завис, словно трупная муха, а затем снова улетел прочь. Это был полицейский патруль, который заглядывал людям в окна. Однако патрули не имели значения. Бояться нужно было только Полиции мыслей.
За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще болтал о чугуне и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телеэкран работал одновременно и на прием, и на передачу сигнала. Он улавливал каждое слово громче шепота, более того, пока Уинстон оставался в поле зрения металлической пластины, его можно было не только слышать, но и видеть. Конечно, не было никакого способа узнать, наблюдают ли за тобой в данный момент. Как часто и по какому принципу Полиция мыслей подключалась к какому-либо отдельному телеэкрану, оставалось лишь догадываться. Возможно, они вообще круглосуточно следят за всеми. Но во всяком случае точно можно было сказать одно – они могут подключиться к вашей линии, когда захотят. Приходилось жить с осознанием, которое стало не просто привычным, а скорее даже инстинктивным, что каждый издаваемый тобой звук слышат, а каждое твое движение внимательно отслеживается, если только ты не находишься в полной темноте.
Уинстон старался всегда держаться к телеэкрану спиной. Так было безопаснее, хотя он прекрасно понимал, что даже спина может его выдать. В километре от его дома находилось Министерство Правды, где он, собственно, и работал. Это было громадное белое здание, которое возвышалось над угрюмым городским пейзажем. «И это, – подумал он с неким отвращением, – это Лондон, главный город Взлетной полосы № 1, которая является третьей по численности населения провинцией Океании». Он попытался выжать из своей памяти детские воспоминания, которые должны были подсказать ему, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли здесь были эти гниющие обшарпанные дома девятнадцатого века, стены которых были подперты деревянными балками, окна закрыты листами картона, крыши залатаны ржавым гофрированным железом, а заборы кренились во всех направлениях? А что насчет разбомбленных пустырей, где в воздухе кружилась белая пыль, а груды щебня и битого кирпича поросли иван-чаем; пустырей, где образовались целые колонии убогих деревянных трущоб? Но он не мог ничего вспомнить, сколько ни пытался: от его детства не осталось ничего, кроме калейдоскопа несвязных сцен, возникающих без фона и контекста, поэтому по большей части абсолютно ему непонятных.
Здание Министерства Правды, или Минправды на новоязе (новояз был официальным языком Океании), разительно отличалось от любого другого объекта в округе. Это было огромное пирамидальное строение из отполированного белого бетона, возвышающееся, терраса за террасой, на высоту трехсот метров. С того места, где стоял Уинстон, можно было прочитать выгравированные на гладком фасаде три основных лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Говорили, что в Министерстве правды три тысячи комнат над землей и столько же под землей. В разных районах Лондона разместились еще три здания аналогичного вида и размера. Они настолько выделялись из окружающей архитектуры, что с крыши жилого дома «Победа» можно было четко увидеть сразу все четыре. Это были здания четырех министерств, которые и составляли весь правительственный аппарат Океании. Министерство правды заведовало новостями, развлечениями, образованием и изобразительным искусством. Министерство мира занималось войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. А Министерство изобилия отвечало за экономику. Их названия на новоязе звучали так: Минправда, Минмир, Минлюб и Минизоб.
Министерство любви особо пугало свои видом. В нем совсем не было окон. Уинстон никогда не бывал в Министерстве любви, даже не подходил к нему ближе, чем на полкилометра. Это было место, куда нельзя было войти, кроме как по служебным делам, и то только через лабиринт заграждений из колючей проволоки, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. По улицам, ведущим к его внешним ограждениям, бродили верзилы-охранники в черной форме, вооруженные складными дубинками.
Уинстон резко обернулся. Он мгновенно придал своему лицу выражение тихого оптимизма, ведь именно такое лицо было целесообразно делать, глядя на телеэкран. Он прошел через комнату в крошечную кухню. Уйдя из Министерства в это время суток, он пожертвовал своим обедом в столовой, при этом прекрасно знал, что на кухне у него не было ничего, кроме куска темного хлеба, который нужно было приберечь для завтрака. Он взял с полки бутылку с бесцветной жидкостью, на которой была наклеена незамысловатая белая этикетка с надписью «Джин Победа». В ноздри ударил резкий маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с силами и проглотил напиток, словно лекарство.
Мгновенно его лицо покраснело, а из глаз потекли слезы. Жидкость эта была похожа на азотную кислоту, и уже после первого глотка возникало ощущение, что тебя бьют по затылку резиновой дубинкой. Но жжение почти сразу утихло, и мир стал выглядеть куда лучше. Он вынул из кармана скомканную пачку с надписью «Сигареты Победа», достал сигарету, но по неосторожности взял ее вертикально, отчего весь табак из нее высыпался на пол. Со следующей он справился получше. Он вернулся в гостиную и сел за маленький столик слева от телеэкрана. Из ящика стола достал перьевую ручку, бутылочку с чернилами и толстую записную книжку с красным корешком и обложкой с мраморным узором.
Телеэкран в его гостиной висел почему-то не так, как у всех. Вместо того, чтобы размещаться, как обычно, в торцевой стене, охватывая всю комнату, он был встроен в более длинную стену напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, в которой и сидел сейчас Уинстон. Когда строился этот дом, она, вероятно, предназначалась для книжного стеллажа. Вжимаясь в эту нишу, Уинстон мог оставаться вне зоны видимости телеэкрана. Его, конечно, было слышно, но пока он оставался в своем нынешнем положении, видно его не было, и это главное. Такая необычная планировка комнаты отчасти и сподвигла его на то, что он собирался сейчас сделать.
Но также на это его вдохновил блокнот, который он только что достал из ящика. Это был необычайно красивый блокнот. Немного пожелтевшие от возраста страницы были сделаны из плотной гладкой бумаги, которую не производили уже по крайней мере лет сорок. Но Уинстон предполагал, что записная книга была намного старше. Он увидел ее в витрине унылой маленькой лавки барахольщика в бедном квартале (в каком именно, он уже и не помнил), и тотчас же им овладело непреодолимое желание завладеть этой вещью. Вообще, члены Партии не должны были ходить за покупками в обычные магазины (так называемые точки свободной торговли), но это правило не соблюдалось слишком строго, потому что в таких магазинах были разные товары – такие как шнурки и бритвенные лезвия, которые нельзя было больше нигде достать. Уинстон бегло оглядел улицу, а затем проскользнул внутрь и купил этот блокнот за два доллара пятьдесят центов. В тот момент он даже не понимал, зачем именно он ему нужен. С неким чувством вины он отнес его домой в своем портфеле. Даже если в нем ничего не было написано, владение такой вещью уже было компрометирующим.
Сейчас он собирался открыть этот блокнот. Это не было противозаконным (ничто не было противозаконным, поскольку законов как таковых больше просто не было), но, если бы его кто-то застукал за этим занятием, наказанием, конечно же, была бы смерть или, как минимум, двадцать пять лет в исправительно-трудовом лагере. Уинстон сковырнул с кончика перьевой ручки заводскую смазку. Перо было архаичным инструментом, который сейчас редко использовался даже для подписей документов. Он и его купил тайком – не удержался, ему показалось, что красивая кремовая бумага заслуживала того, чтобы по ней писали настоящим пером, а не царапали острым химическим карандашом. На самом деле он не привык писать от руки. Помимо очень коротких заметок, он обычно надиктовывал все в виде речевого письма, что, конечно, было невозможно в данной ситуации. Он окунул перо в чернила и на мгновение замер. Внутри него все содрогнулось. Коснуться бумаги ручкой было решающим действием. Маленькими корявыми буквами он написал: «4 апреля 1984 г.» – и отклонился. На него обрушилось чувство полной беспомощности. Во-первых, он не был точно уверен, что сейчас 1984 год. Скорее всего, год был все же правильный, поскольку он был вполне уверен, что ему тридцать девять лет и родился он предположительно в 1944 или 1945 году. В наши дни невозможно было точно определить дату, всегда была вероятность ошибиться на год-другой.
Да и вообще, для кого, собственно, он пишет этот дневник? Послание будущим поколениям? Его мысли на мгновение закрутились вокруг сомнительной даты на странице, а затем ему в голову пришло слово из новояза – «двоемыслие». В этот момент он впервые осознал масштабы того, что сейчас собирался сделать. Какое еще послание будущим поколениям? Это было невозможно по своей природе. Либо будущее будет подобно настоящему, и в этом случае его никто не будет слушать, либо оно будет отличаться от настоящего, и тогда его писанина будет бессмысленной и никому не нужной.
Некоторое время он сидел, тупо уставившись на кремовую бумагу. Его ступор прервала резкая военная музыка, зазвучавшая с телеэкрана. Даже удивительно, что сейчас он не просто потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что вообще изначально намеревался сказать. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему никогда не приходило в голову, что ему потребуется еще что-то, кроме смелости. Само написание казалось легким. Все, что ему нужно было сделать, – это перенести на бумагу бесконечный беспокойный монолог, который крутился в его голове буквально годами. Но в этот момент весь его словарный запас иссяк. Более того, у него стала невыносимо зудеть варикозная язва. Он не осмеливался почесать ее, потому что в этом случае она всегда воспалялась. Секунды тикали, а мысли Уинстона были сосредоточены лишь на пустой странице перед ним, зуде кожи над щиколоткой, грохочущем из динамика военном марше и легком опьянении, вызванном джином.
И тут внезапно он начал что-то лихорадочно записывать, наверно, даже не до конца осознавая, что именно он писал. Его мелкий, немного детский почерк метался то вверх, то вниз по странице, сперва он забывал только заглавные буквы, а затем и знаки препинания:
«4 апреля 1984 года. Вчера вечером ходил в кино. Показывают там только военные фильмы. Один был очень неплохой – о беженцах на борту корабля, который бомбили где-то в Средиземном море. Зрителей очень позабавили кадры, на которых толстяк пытается уплыть, но его преследует вертолет: сначала он барахтается в воде, как морская свинья, затем вертолет берет его на мушку, и вот он уже весь изрешечен пулями, а море вокруг него становится розовым от крови, и он быстро тонет, а вода проходит через дыры от пуль в его теле. Публика просто ревела от восторга и дико хохотала, когда он тонул. Потом на экране появилась спасательная шлюпка с детьми, а над ней кружил вертолет. В шлюпке была женщина средних лет, возможно она была еврейкой, она сидела на носу лодки с маленьким мальчиком лет трех на руках. Этот мальчик кричал от испуга и прятал голову между ее грудей, словно пытался укрыться от опасности прямо в ней, а женщина обнимала и утешала его, и все время прикрывала его своим телом, хотя сама посинела от испуга. возможно, она наивно полагала, что ее руки могут защитить его от пуль. затем вертолет скинул 20-килограммовую бомбу прямо на них, и лодка разлетелась в щепки. затем последовал замечательный кадр, показывающий, как детская рука взлетает прямо в воздух, должно быть, на вертолете была установлена камера, чтобы следить за происходящим. с партийных мест раздался шквал аплодисментов, но женщина, которая сидела в части зала, предназначенной для пролетариата, вдруг начала поднимать шум и кричать что нельзя показывать такое при детях но они же это не прямо при детях а потом пришла полиция и выгнала ее из кинотеатра я не думаю что с ней что-то случилось ведь никому нет дела до того что говорят эти пролы типичная реакция пролов они никогда…»
Уинстон перестал писать, отчасти потому, что кисть схватили судороги. Он не знал, что заставило его излить на бумагу этот поток словесного мусора. Но любопытно было то, что, пока он делал это, в его голове вспыхнуло совершенно другое воспоминание, причем настолько ярко, что ему показалось, что он даже сможет его записать. Теперь он понял, что именно этот инцидент и заставил его поспешно улизнуть домой и начать дневник сегодня же.
Сам инцидент произошел этим утром в Министерстве, если, конечно, нечто столь туманное и необъяснимое можно назвать инцидентом. Было около одиннадцати часов утра, и в Отделе Документации, где работал Уинстон, сотрудники как раз вытаскивали стулья из своих кабинок и расставляли их в центре зала напротив большого телеэкрана, готовясь к Двухминутке ненависти. Уинстон как раз занимал свое место в одном из средних рядов, когда в комнату неожиданно вошли двое людей, которых он знал в лицо, но никогда с ними не разговаривал. Первой шла девушка, которую он часто встречал в коридорах Министерства. Он не знал ее имени, но знал, что она работает в Отделе художественной литературы. Поскольку Уинстон иногда видел ее с испачканными маслом руками и с гаечным ключом, то предположил, что она выполняла какую-то техническую работу по обслуживанию машин для написания романов. Это была уверенная в себе девушка лет двадцати семи, с густыми короткими волосами, веснушчатым лицом и стройной подтянутой фигурой. Узкий алый кушак, символ Молодежной антисексуальной лиги, несколько раз обвивался вокруг линии талии поверх форменного комбинезона, подчеркивая стройность ее бедер. Уинстон невзлюбил ее с самой первой их встречи. И он знал почему. Она всем своим видом демонстрировала, если не сказать навязывала, атмосферу всех этих партийных сборищ: типа хоккейных соревнований, обливаний ледяной водой, массовых турпоходов, а также всеобщей благонадежности и стерильности мыслей. Он не любил почти всех женщин, особенно молодых и хорошеньких. Потому что именно женщины, и в первую очередь молодые, были самыми фанатичными приверженцами партийных идеалов, громче всех выкрикивали лозунги, шпионили за другими в надежде выявить и сдать инакомыслящих. Но именно эта девушка казалась ему более опасной, чем большинство других. Однажды, когда они проходили мимо друг друга в коридоре, она искоса бросила на него быстрый взгляд, который, казалось, прожег в нем дыру и на мгновение наполнил его черным ужасом. Ему даже пришла в голову мысль, что она могла быть агентом Полиции мыслей, хотя это и очень маловероятно. Тем не менее, его охватывало чувство беспокойства, смешанное со страхом и враждебностью, всякий раз, когда она была где-то рядом.
Сразу за ней вошел О’Брайен, член Внутренней Партии, занимавший столь важный и высокий пост, что Уинстон имел лишь смутное представление о его обязанностях. На мгновение в зале воцарилась тишина, когда группа людей, собравшаяся вокруг стульев, увидела приближающийся к ним черный комбинезон члена партийной верхушки. О’Брайен был крупным, крепким мужчиной с толстой шеей и ухмыляющимся, но жестоким лицом. Притом, несмотря на свою грозную внешность, он все же обладал неким шармом. У него была привычка поправлять очки на носу, это было довольно забавно и имело какой-то удивительный обезоруживающий эффект, придавая его внешности какую-то интеллигентность и утонченность. Этот его жест делал его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагавшего вам свою табакерку (если, конечно, кто-то еще мыслит такими категориями). Уинстон видел О’Брайена около дюжины раз за почти столько же лет. Что-то в этом человеке притягивало Уинстона, и не только потому, что он был заинтригован контрастом между учтивыми манерами О’Брайена и его борцовским телосложением. В большей степени это было из-за тайного убеждения, возможно, даже не столько веры, сколько надежды, что политическая ортодоксальность О’Брайена не была идеальной. Что-то в его лице неуклонно наталкивало на такие мысли. Хотя, опять же, возможно, его лицо выражало не партийную неблагонадежность, а просто высокий интеллект. Но, в любом случае, он выглядел как человек, с которым можно было бы поговорить по душам, если бы каким-то образом удалось обмануть телеэкран и остаться наедине. Уинстон никогда не предпринимал ни малейших усилий, чтобы проверить это свое предположение, да и на самом деле не было никакого способа осуществить это. В этот момент О’Брайен взглянул на свои наручные часы, увидел, что уже почти одиннадцать ноль-ноль, и, очевидно, решил задержаться в Отделе Документации, пока не закончится Двухминутка ненависти. Он занял стул в одном ряду с Уинстоном, сев через пару мест от него. Между ними села невысокая светловолосая женщина, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Сразу за ним села темноволосая девушка с красным кушаком.
И вот уже через мгновение с большого телеэкрана в конце комнаты вырвался ужасный скрежет, словно работал какой-то несмазанный ржавый механизм. Это был шум, от которого сводило зубы и волосы на затылке вставали дыбом. Двухминутка ненависти началась.
Как обычно, на экране мелькнуло лицо Эммануэля Гольдштейна, самого презренного и коварного врага народа. Кое-где среди публики раздавалось шипение. Маленькая рыжеволосая женщина вскрикнула в порыве страха и отвращения. Гольдштейн был мятежником и предателем, который когда-то давным-давно (сколько времени назад, никто не помнил) был одним из лидеров Партии, почти на уровне самого Большого Брата, а затем принялся вести контрреволюционную деятельность, из-за чего был приговорен к смерти, однако таинственным образом сбежал и скрылся. Программы Двухминуток ненависти менялись изо дня в день, но в каждой из них Гольдштейн был главным персонажем. Он был первым предателем, первым осквернителем чистоты Партии. Все последующие преступления против Партии, все предательства, саботаж, ересь и инакомыслие прямо вытекали из его учения. Говорилось, что он все еще жив и вынашивает свои коварные заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных заказчиков, а возможно – как периодически ходили слухи – в каком-нибудь тайнике в самой Океании.
Диафрагма Уинстона сжалась в каком-то спазме. Он никогда не мог смотреть на лицо Гольдштейна без болезненной смеси эмоций. Это было худощавое еврейское лицо с огромным пушистым ореолом седых волос и небольшой козлиной бородкой – умное, но в то же время отвратительное по своей сути лицо, наполненное какой-то старческой глупостью, и этот его длинный тонкий нос, на кончике которого каким-то немыслимым образом держались очки. Лицо напоминало морду овцы, и голос тоже имел какой-то овечий тон. Гольдштейн проводил свою обычную ядовитую словесную атаку на доктрины Партии – атаку настолько преувеличенную и извращенную, что даже ребенку стало бы понятно, что это полный бред, но при этом все же достаточно правдоподобную, чтобы посеять в ком-то, не столь сообразительном, как он, зерно сомнения и наполнить голову бедняги тревожными мыслями. Он оскорблял Большого Брата, осуждал диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, выкрикивал, что истинная идея революции была предана – и все это в быстрой многосложной речи, которая была своего рода пародией на привычный стиль партийных ораторов и даже содержала слова новояза. На самом деле она содержала даже больше слов новояза, чем обычно использовал любой член Партии в реальной жизни. И все это время, чтобы не возникло никаких сомнений относительно реальности, которую скрывала притворная болтовня Гольдштейна, за его головой на телеэкране маршировали бесконечные колонны евразийской армии – шеренги крепких, абсолютно одинаковых мужчин с невыразительными азиатскими лицами мелькали на экране. Приглушенный ритмичный топот солдатских сапог был фоном для блеющего голоса Гольдштейна.
Не прошло и тридцати секунд с начала Двухминутки ненависти, а половина присутствующих в комнате людей вспыхнула в неконтролируемом порыве ярости и ненависти. Самодовольное овечье лицо на экране и ужасающая мощь евразийской армии, стоящей за ним, были невыносимы. Кроме того, вид или даже мысль о Гольдштейне автоматически вызывали страх и гнев. Он был объектом даже более постоянной ненависти, чем Евразия и Остазия, поскольку, когда Океания находилась в состоянии войны с одной из этих держав, она обычно находилась в мире с другой. Но что было странно, так это то, что хотя Гольдштейна все ненавидели и презирали, а его теории ежедневно опровергались, разбивались и высмеивались как полный вздор и бред (ведь это и был вздор и бред) на собраниях и телеэкранах, в газетах и книгах, его влияние, казалось, никогда не уменьшалось. Всегда были новые обманщики, идущие у него на поводу. Не было и дня, чтобы Полиция мыслей не разоблачала шпионов и саботажников, действующих под его руководством. Он был командиром огромной теневой армии, подпольной сети заговорщиков, занимающихся ниспровержением государства. Говорили, что его организация называется «Братство». А еще люди шептались о том, что существует какая-то ужасная книга, сборник всех ересей, автором которой был Гольдштейн и которую он тайно распространял. Эта книга не имела названия. Люди называли ее просто Книгой. Но все это были лишь туманные слухи. Ни о Братстве, ни о Книге вслух не упоминал ни один член Партии.
На второй минуте ненависть достигла апогея. Люди прыгали икричали во весь голос, пытаясь заглушить сводящий с ума блеющий голос, доносящийся с экрана. Маленькая рыжеволосая женщина раскраснелась, она жадно хватала ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Даже грозное лицо О’Брайена покраснело. Он сидел в своем кресле очень прямо, его мощная грудь вздувалась и дрожала, как будто он противостоял натиску волны. Темноволосая девушка позади Уинстона начала кричать: «Свинья! Свинья! Свинья!» – и вдруг взяла тяжелый словарь новояза и швырнула его в экран. Он попал Гольдштейну в нос и отскочил от него. Гадкий голос неумолимо продолжал вещать. В какой-то момент Уинстон обнаружил, что он кричит вместе с остальными и сильно пинает пяткой перекладину стула. Ужас Двухминутки ненависти был не в том, что человек был вынужден играть роль, а в том, что волей-неволей ты присоединялся к этому безумству и оно тебя захлестывало. Тридцать секунд – и любые притворства были уже не нужны. Ужасный экстаз страха и мстительности, желание убивать, истязать, разбивать лица кувалдой, казалось, протекал через всю группу людей, как электрический ток, превращая твое лицо в сумасшедшую гримасу. И все же ярость, которую каждый испытывал, была абстрактной, не направленной на что-то конкретное, и ее можно было переключить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Таким образом, в какой-то момент ненависть Уинстона была обращена вовсе не против Гольдштейна, а наоборот, против Большого Брата, Партии и Полиции мыслей. В такие моменты его сердце стремилось к одинокому, высмеиваемому всеми еретику на экране, единственному хранителю истины и здравомыслия в этом мире лжи. И тем не менее, в следующее мгновение он уже оказался в единстве с окружающими его людьми, и все, что было сказано о Гольдштейне, казалось ему правдой. В эти моменты его тайное отвращение к Большому Брату сменялось обожанием, и Большой Брат, этот непобедимый, бесстрашный защитник, возвышался и стоял, как скала, против азиатских орд. А Гольдштейн, несмотря на свою изоляцию от цивилизованного общества, беспомощность да и вообще всеобщее сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, способным одной лишь силой своего голоса разрушить все то, что так заботливо создала Партия для своих граждан.
Иногда даже можно было переключить ненависть в ту или иную сторону сознательно. Внезапно, с каким-то неистовым усилием, с которым в кошмаре отрывается голова от подушки, Уинстону удалось перенести свою ненависть с лица на экране на темноволосую девушку позади него. Яркие красивые галлюцинации промелькнули в его голове. Он забивает её до смерти резиновой дубинкой. Он привязывает ее обнаженную к столбу и стреляет в нее стрелами, как в святого Себастьяна. Он насилует ее и перерезает ей горло в момент наивысшего экстаза. Более того, даже лучше, чем раньше, он осознал, почему ненавидит ее. Он ненавидел ее, потому что она была молодой, красивой и при этом всем секс и сексуальность как таковая ее абсолютно не интересовали; потому что он хотел спать с ней, но знал, что этому никогда не бывать, потому что вокруг ее тонкой гибкой талии, которая, казалось, так и просила обвить ее рукой, был обмотан ненавистный алый кушак – агрессивный символ целомудрия.
Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в настоящее блеяние овцы, и на мгновение лицо стало овечьим. Затем овечье лицо растворилось в фигуре евразийского солдата, огромного и ужасного. Казалось, что он со своим неистово грохочущим автоматом сейчас выпрыгнет с экрана прямо на зрителей, так что некоторые люди, сидевшие в передних рядах, испуганно вздрагивали и уклонялись. Но уже в следующий момент, вызвав у всех глубокий выдох облегчения, враждебная фигура растворилась, и ей на смену пришло лицо Большого Брата – черноволосого, черноусого, полного силы и какого-то таинственного и умиротворяющего спокойствия. Лицо его становилось все больше, оно заполнило собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Большой Брат. Это были всего лишь несколько слов ободрения, которые произносятся в грохоте битвы, неразличимые по отдельности, но внушающие уверенность самим фактом их произнесения. Затем лицо Большого Брата снова исчезло, и вместо него жирным шрифтом были выделены три лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
George Orwell
Первые полвека после публикации антиутопия Оруэлла «1984» воспринималась как злая сатира на коммунистические режимы.
Но, увы, пророческие детали мира «1984» всё больше и больше становятся реальностью современного как бы декоммунизированного мира.
Фантастические реалии, придуманные Джорджем Оруэллом для Британии 1984 года, давно вошли в культурный код современного человека, зависимого от глобальных корпораций, социальных сетей и медиа.
* * *
«Скотный двор» Оруэлла – притча, полная горькой иронии и сарказма. Трагичная история сообщества животных, решившихся избавиться от угнетения людьми, но в результате попавшего под изуверскую власть свиней.
В повести Оруэлл показал перерождение революционных принципов и программ, то есть постепенный переход от идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. «Скотный двор» – притча, аллегория на революцию 1917 года и последующие события в России.
* * *
«Воспоминания о войне в Испании» – очерк о гражданской войне между испанскими левыми и фашистами, в котором Оруэлл предупреждает об опасности наступающего тоталитаризма, утверждающегося во многом благодаря манипуляциям, пропаганде и трусливому соглашательству либералов. Это страстный антивоенный, гуманистический призыв писателя, содержащий идеи, которые развились в художественных произведениях, представленных в этом сборнике.
Джордж Оруэлл
СОЧИНЕНИЯ
1984
СКОТНЫЙ ДВОР
ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ В ИСПАНИИ
1984
Часть первая
Глава 1
Был ясный холодный апрельский день, часы показывали ровно тринадцать ноль-ноль. Уинстон Смит, зарывшись в свой воротник так, что подбородок почти касался его груди, в надежде поскорее спастись от мерзкого колючего ветра быстро проскользнул через стеклянные двери многоэтажного жилого дома «Победа», хоть и недостаточно быстро, потому что вихрь зернистой пыли протиснулся в помещение вместе с ним.
В парадном пахло вареной капустой и старыми половиками. На стене висел цветной плакат, слишком большой для такого помещения. С плаката смотрело громадное, шириной более метра, лицо человека лет сорока пяти с густыми черными усами, грубое, но по-своему красивое. Уинстон сразу направился к лестнице. Пробовать вызвать лифт было бесполезно. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас электричество стали вообще отключать в дневное время. Это было частью кампании по экономии средств для подготовки к Неделе ненависти. До квартиры предстояло преодолеть целых семь пролетов. Уинстону было тридцать девять лет, и его мучила варикозная язва над правой лодыжкой, поэтому он шел медленно, несколько раз отдыхая по дороге. На каждом этаже напротив шахты лифта со стены на него смотрел плакат с огромным лицом. Это была одна из тех иллюстраций, которые сделаны так, что кажется, будто глаза следят за тобой, в какую бы сторону ты ни пошел. Большими буквами на плакате было написано: «БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ».
В квартире бархатный голос зачитывал сводку с какими-то цифрами, имевшими отношение к производству чугуна. Голос исходил из продолговатой металлической пластины, похожей на тусклое зеркало, которая была встроена в стену с правой стороны. Уинстон повернул переключатель, и голос стал тише, хотя слова все еще были слышны довольно четко. Этот аппарат (он назывался телеэкран) можно было затемнить, но полностью выключать запрещено. Уинстон подошел к окну: невысокий худощавый человек, чье нескладное телосложение еще больше подчеркивал синий комбинезон – обязательная униформа всех партийцев. Волосы у него были совсем светлые, а румяное от природы лицо шелушилось из-за жесткого мыла, тупых бритв и холода только что закончившейся суровой зимы.
Даже через закрытое окно он чувствовал холод, которым был окутан мир снаружи. На улице небольшие порывы ветра кружили вихрями пыль и рваную бумагу, и хотя светило солнце, а небо было ярко-голубым, бесцветным казалось все, кроме развешанных повсюду плакатов. Лицо с черными усами покровительственно наблюдало со всех сторон. Один из плакатов висел прямо напротив его дома. «БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ» – гласила надпись на нем, а темные глаза смотрели прямо в глаза Уинстона. Внизу возле тротуара висел другой плакат, правда, один из его уголков отклеился, и он судорожно трепыхался на ветру, попеременно то пряча, то показывая единственное слово «ангсоц». Вдалеке между крышами пролетел вертолет, на мгновение он завис, словно трупная муха, а затем снова улетел прочь. Это был полицейский патруль, который заглядывал людям в окна. Однако патрули не имели значения. Бояться нужно было только Полиции мыслей.
За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще болтал о чугуне и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телеэкран работал одновременно и на прием, и на передачу сигнала. Он улавливал каждое слово громче шепота, более того, пока Уинстон оставался в поле зрения металлической пластины, его можно было не только слышать, но и видеть. Конечно, не было никакого способа узнать, наблюдают ли за тобой в данный момент. Как часто и по какому принципу Полиция мыслей подключалась к какому-либо отдельному телеэкрану, оставалось лишь догадываться. Возможно, они вообще круглосуточно следят за всеми. Но во всяком случае точно можно было сказать одно – они могут подключиться к вашей линии, когда захотят. Приходилось жить с осознанием, которое стало не просто привычным, а скорее даже инстинктивным, что каждый издаваемый тобой звук слышат, а каждое твое движение внимательно отслеживается, если только ты не находишься в полной темноте.
Уинстон старался всегда держаться к телеэкрану спиной. Так было безопаснее, хотя он прекрасно понимал, что даже спина может его выдать. В километре от его дома находилось Министерство Правды, где он, собственно, и работал. Это было громадное белое здание, которое возвышалось над угрюмым городским пейзажем. «И это, – подумал он с неким отвращением, – это Лондон, главный город Взлетной полосы № 1, которая является третьей по численности населения провинцией Океании». Он попытался выжать из своей памяти детские воспоминания, которые должны были подсказать ему, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли здесь были эти гниющие обшарпанные дома девятнадцатого века, стены которых были подперты деревянными балками, окна закрыты листами картона, крыши залатаны ржавым гофрированным железом, а заборы кренились во всех направлениях? А что насчет разбомбленных пустырей, где в воздухе кружилась белая пыль, а груды щебня и битого кирпича поросли иван-чаем; пустырей, где образовались целые колонии убогих деревянных трущоб? Но он не мог ничего вспомнить, сколько ни пытался: от его детства не осталось ничего, кроме калейдоскопа несвязных сцен, возникающих без фона и контекста, поэтому по большей части абсолютно ему непонятных.
Здание Министерства Правды, или Минправды на новоязе (новояз был официальным языком Океании), разительно отличалось от любого другого объекта в округе. Это было огромное пирамидальное строение из отполированного белого бетона, возвышающееся, терраса за террасой, на высоту трехсот метров. С того места, где стоял Уинстон, можно было прочитать выгравированные на гладком фасаде три основных лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Говорили, что в Министерстве правды три тысячи комнат над землей и столько же под землей. В разных районах Лондона разместились еще три здания аналогичного вида и размера. Они настолько выделялись из окружающей архитектуры, что с крыши жилого дома «Победа» можно было четко увидеть сразу все четыре. Это были здания четырех министерств, которые и составляли весь правительственный аппарат Океании. Министерство правды заведовало новостями, развлечениями, образованием и изобразительным искусством. Министерство мира занималось войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. А Министерство изобилия отвечало за экономику. Их названия на новоязе звучали так: Минправда, Минмир, Минлюб и Минизоб.
Министерство любви особо пугало свои видом. В нем совсем не было окон. Уинстон никогда не бывал в Министерстве любви, даже не подходил к нему ближе, чем на полкилометра. Это было место, куда нельзя было войти, кроме как по служебным делам, и то только через лабиринт заграждений из колючей проволоки, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. По улицам, ведущим к его внешним ограждениям, бродили верзилы-охранники в черной форме, вооруженные складными дубинками.
Уинстон резко обернулся. Он мгновенно придал своему лицу выражение тихого оптимизма, ведь именно такое лицо было целесообразно делать, глядя на телеэкран. Он прошел через комнату в крошечную кухню. Уйдя из Министерства в это время суток, он пожертвовал своим обедом в столовой, при этом прекрасно знал, что на кухне у него не было ничего, кроме куска темного хлеба, который нужно было приберечь для завтрака. Он взял с полки бутылку с бесцветной жидкостью, на которой была наклеена незамысловатая белая этикетка с надписью «Джин Победа». В ноздри ударил резкий маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с силами и проглотил напиток, словно лекарство.
Мгновенно его лицо покраснело, а из глаз потекли слезы. Жидкость эта была похожа на азотную кислоту, и уже после первого глотка возникало ощущение, что тебя бьют по затылку резиновой дубинкой. Но жжение почти сразу утихло, и мир стал выглядеть куда лучше. Он вынул из кармана скомканную пачку с надписью «Сигареты Победа», достал сигарету, но по неосторожности взял ее вертикально, отчего весь табак из нее высыпался на пол. Со следующей он справился получше. Он вернулся в гостиную и сел за маленький столик слева от телеэкрана. Из ящика стола достал перьевую ручку, бутылочку с чернилами и толстую записную книжку с красным корешком и обложкой с мраморным узором.
Телеэкран в его гостиной висел почему-то не так, как у всех. Вместо того, чтобы размещаться, как обычно, в торцевой стене, охватывая всю комнату, он был встроен в более длинную стену напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, в которой и сидел сейчас Уинстон. Когда строился этот дом, она, вероятно, предназначалась для книжного стеллажа. Вжимаясь в эту нишу, Уинстон мог оставаться вне зоны видимости телеэкрана. Его, конечно, было слышно, но пока он оставался в своем нынешнем положении, видно его не было, и это главное. Такая необычная планировка комнаты отчасти и сподвигла его на то, что он собирался сейчас сделать.
Но также на это его вдохновил блокнот, который он только что достал из ящика. Это был необычайно красивый блокнот. Немного пожелтевшие от возраста страницы были сделаны из плотной гладкой бумаги, которую не производили уже по крайней мере лет сорок. Но Уинстон предполагал, что записная книга была намного старше. Он увидел ее в витрине унылой маленькой лавки барахольщика в бедном квартале (в каком именно, он уже и не помнил), и тотчас же им овладело непреодолимое желание завладеть этой вещью. Вообще, члены Партии не должны были ходить за покупками в обычные магазины (так называемые точки свободной торговли), но это правило не соблюдалось слишком строго, потому что в таких магазинах были разные товары – такие как шнурки и бритвенные лезвия, которые нельзя было больше нигде достать. Уинстон бегло оглядел улицу, а затем проскользнул внутрь и купил этот блокнот за два доллара пятьдесят центов. В тот момент он даже не понимал, зачем именно он ему нужен. С неким чувством вины он отнес его домой в своем портфеле. Даже если в нем ничего не было написано, владение такой вещью уже было компрометирующим.
Сейчас он собирался открыть этот блокнот. Это не было противозаконным (ничто не было противозаконным, поскольку законов как таковых больше просто не было), но, если бы его кто-то застукал за этим занятием, наказанием, конечно же, была бы смерть или, как минимум, двадцать пять лет в исправительно-трудовом лагере. Уинстон сковырнул с кончика перьевой ручки заводскую смазку. Перо было архаичным инструментом, который сейчас редко использовался даже для подписей документов. Он и его купил тайком – не удержался, ему показалось, что красивая кремовая бумага заслуживала того, чтобы по ней писали настоящим пером, а не царапали острым химическим карандашом. На самом деле он не привык писать от руки. Помимо очень коротких заметок, он обычно надиктовывал все в виде речевого письма, что, конечно, было невозможно в данной ситуации. Он окунул перо в чернила и на мгновение замер. Внутри него все содрогнулось. Коснуться бумаги ручкой было решающим действием. Маленькими корявыми буквами он написал: «4 апреля 1984 г.» – и отклонился. На него обрушилось чувство полной беспомощности. Во-первых, он не был точно уверен, что сейчас 1984 год. Скорее всего, год был все же правильный, поскольку он был вполне уверен, что ему тридцать девять лет и родился он предположительно в 1944 или 1945 году. В наши дни невозможно было точно определить дату, всегда была вероятность ошибиться на год-другой.
Да и вообще, для кого, собственно, он пишет этот дневник? Послание будущим поколениям? Его мысли на мгновение закрутились вокруг сомнительной даты на странице, а затем ему в голову пришло слово из новояза – «двоемыслие». В этот момент он впервые осознал масштабы того, что сейчас собирался сделать. Какое еще послание будущим поколениям? Это было невозможно по своей природе. Либо будущее будет подобно настоящему, и в этом случае его никто не будет слушать, либо оно будет отличаться от настоящего, и тогда его писанина будет бессмысленной и никому не нужной.
Некоторое время он сидел, тупо уставившись на кремовую бумагу. Его ступор прервала резкая военная музыка, зазвучавшая с телеэкрана. Даже удивительно, что сейчас он не просто потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что вообще изначально намеревался сказать. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему никогда не приходило в голову, что ему потребуется еще что-то, кроме смелости. Само написание казалось легким. Все, что ему нужно было сделать, – это перенести на бумагу бесконечный беспокойный монолог, который крутился в его голове буквально годами. Но в этот момент весь его словарный запас иссяк. Более того, у него стала невыносимо зудеть варикозная язва. Он не осмеливался почесать ее, потому что в этом случае она всегда воспалялась. Секунды тикали, а мысли Уинстона были сосредоточены лишь на пустой странице перед ним, зуде кожи над щиколоткой, грохочущем из динамика военном марше и легком опьянении, вызванном джином.
И тут внезапно он начал что-то лихорадочно записывать, наверно, даже не до конца осознавая, что именно он писал. Его мелкий, немного детский почерк метался то вверх, то вниз по странице, сперва он забывал только заглавные буквы, а затем и знаки препинания:
«4 апреля 1984 года. Вчера вечером ходил в кино. Показывают там только военные фильмы. Один был очень неплохой – о беженцах на борту корабля, который бомбили где-то в Средиземном море. Зрителей очень позабавили кадры, на которых толстяк пытается уплыть, но его преследует вертолет: сначала он барахтается в воде, как морская свинья, затем вертолет берет его на мушку, и вот он уже весь изрешечен пулями, а море вокруг него становится розовым от крови, и он быстро тонет, а вода проходит через дыры от пуль в его теле. Публика просто ревела от восторга и дико хохотала, когда он тонул. Потом на экране появилась спасательная шлюпка с детьми, а над ней кружил вертолет. В шлюпке была женщина средних лет, возможно она была еврейкой, она сидела на носу лодки с маленьким мальчиком лет трех на руках. Этот мальчик кричал от испуга и прятал голову между ее грудей, словно пытался укрыться от опасности прямо в ней, а женщина обнимала и утешала его, и все время прикрывала его своим телом, хотя сама посинела от испуга. возможно, она наивно полагала, что ее руки могут защитить его от пуль. затем вертолет скинул 20-килограммовую бомбу прямо на них, и лодка разлетелась в щепки. затем последовал замечательный кадр, показывающий, как детская рука взлетает прямо в воздух, должно быть, на вертолете была установлена камера, чтобы следить за происходящим. с партийных мест раздался шквал аплодисментов, но женщина, которая сидела в части зала, предназначенной для пролетариата, вдруг начала поднимать шум и кричать что нельзя показывать такое при детях но они же это не прямо при детях а потом пришла полиция и выгнала ее из кинотеатра я не думаю что с ней что-то случилось ведь никому нет дела до того что говорят эти пролы типичная реакция пролов они никогда…»
Уинстон перестал писать, отчасти потому, что кисть схватили судороги. Он не знал, что заставило его излить на бумагу этот поток словесного мусора. Но любопытно было то, что, пока он делал это, в его голове вспыхнуло совершенно другое воспоминание, причем настолько ярко, что ему показалось, что он даже сможет его записать. Теперь он понял, что именно этот инцидент и заставил его поспешно улизнуть домой и начать дневник сегодня же.
Сам инцидент произошел этим утром в Министерстве, если, конечно, нечто столь туманное и необъяснимое можно назвать инцидентом. Было около одиннадцати часов утра, и в Отделе Документации, где работал Уинстон, сотрудники как раз вытаскивали стулья из своих кабинок и расставляли их в центре зала напротив большого телеэкрана, готовясь к Двухминутке ненависти. Уинстон как раз занимал свое место в одном из средних рядов, когда в комнату неожиданно вошли двое людей, которых он знал в лицо, но никогда с ними не разговаривал. Первой шла девушка, которую он часто встречал в коридорах Министерства. Он не знал ее имени, но знал, что она работает в Отделе художественной литературы. Поскольку Уинстон иногда видел ее с испачканными маслом руками и с гаечным ключом, то предположил, что она выполняла какую-то техническую работу по обслуживанию машин для написания романов. Это была уверенная в себе девушка лет двадцати семи, с густыми короткими волосами, веснушчатым лицом и стройной подтянутой фигурой. Узкий алый кушак, символ Молодежной антисексуальной лиги, несколько раз обвивался вокруг линии талии поверх форменного комбинезона, подчеркивая стройность ее бедер. Уинстон невзлюбил ее с самой первой их встречи. И он знал почему. Она всем своим видом демонстрировала, если не сказать навязывала, атмосферу всех этих партийных сборищ: типа хоккейных соревнований, обливаний ледяной водой, массовых турпоходов, а также всеобщей благонадежности и стерильности мыслей. Он не любил почти всех женщин, особенно молодых и хорошеньких. Потому что именно женщины, и в первую очередь молодые, были самыми фанатичными приверженцами партийных идеалов, громче всех выкрикивали лозунги, шпионили за другими в надежде выявить и сдать инакомыслящих. Но именно эта девушка казалась ему более опасной, чем большинство других. Однажды, когда они проходили мимо друг друга в коридоре, она искоса бросила на него быстрый взгляд, который, казалось, прожег в нем дыру и на мгновение наполнил его черным ужасом. Ему даже пришла в голову мысль, что она могла быть агентом Полиции мыслей, хотя это и очень маловероятно. Тем не менее, его охватывало чувство беспокойства, смешанное со страхом и враждебностью, всякий раз, когда она была где-то рядом.
Сразу за ней вошел О’Брайен, член Внутренней Партии, занимавший столь важный и высокий пост, что Уинстон имел лишь смутное представление о его обязанностях. На мгновение в зале воцарилась тишина, когда группа людей, собравшаяся вокруг стульев, увидела приближающийся к ним черный комбинезон члена партийной верхушки. О’Брайен был крупным, крепким мужчиной с толстой шеей и ухмыляющимся, но жестоким лицом. Притом, несмотря на свою грозную внешность, он все же обладал неким шармом. У него была привычка поправлять очки на носу, это было довольно забавно и имело какой-то удивительный обезоруживающий эффект, придавая его внешности какую-то интеллигентность и утонченность. Этот его жест делал его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагавшего вам свою табакерку (если, конечно, кто-то еще мыслит такими категориями). Уинстон видел О’Брайена около дюжины раз за почти столько же лет. Что-то в этом человеке притягивало Уинстона, и не только потому, что он был заинтригован контрастом между учтивыми манерами О’Брайена и его борцовским телосложением. В большей степени это было из-за тайного убеждения, возможно, даже не столько веры, сколько надежды, что политическая ортодоксальность О’Брайена не была идеальной. Что-то в его лице неуклонно наталкивало на такие мысли. Хотя, опять же, возможно, его лицо выражало не партийную неблагонадежность, а просто высокий интеллект. Но, в любом случае, он выглядел как человек, с которым можно было бы поговорить по душам, если бы каким-то образом удалось обмануть телеэкран и остаться наедине. Уинстон никогда не предпринимал ни малейших усилий, чтобы проверить это свое предположение, да и на самом деле не было никакого способа осуществить это. В этот момент О’Брайен взглянул на свои наручные часы, увидел, что уже почти одиннадцать ноль-ноль, и, очевидно, решил задержаться в Отделе Документации, пока не закончится Двухминутка ненависти. Он занял стул в одном ряду с Уинстоном, сев через пару мест от него. Между ними села невысокая светловолосая женщина, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Сразу за ним села темноволосая девушка с красным кушаком.
И вот уже через мгновение с большого телеэкрана в конце комнаты вырвался ужасный скрежет, словно работал какой-то несмазанный ржавый механизм. Это был шум, от которого сводило зубы и волосы на затылке вставали дыбом. Двухминутка ненависти началась.
Как обычно, на экране мелькнуло лицо Эммануэля Гольдштейна, самого презренного и коварного врага народа. Кое-где среди публики раздавалось шипение. Маленькая рыжеволосая женщина вскрикнула в порыве страха и отвращения. Гольдштейн был мятежником и предателем, который когда-то давным-давно (сколько времени назад, никто не помнил) был одним из лидеров Партии, почти на уровне самого Большого Брата, а затем принялся вести контрреволюционную деятельность, из-за чего был приговорен к смерти, однако таинственным образом сбежал и скрылся. Программы Двухминуток ненависти менялись изо дня в день, но в каждой из них Гольдштейн был главным персонажем. Он был первым предателем, первым осквернителем чистоты Партии. Все последующие преступления против Партии, все предательства, саботаж, ересь и инакомыслие прямо вытекали из его учения. Говорилось, что он все еще жив и вынашивает свои коварные заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных заказчиков, а возможно – как периодически ходили слухи – в каком-нибудь тайнике в самой Океании.
Диафрагма Уинстона сжалась в каком-то спазме. Он никогда не мог смотреть на лицо Гольдштейна без болезненной смеси эмоций. Это было худощавое еврейское лицо с огромным пушистым ореолом седых волос и небольшой козлиной бородкой – умное, но в то же время отвратительное по своей сути лицо, наполненное какой-то старческой глупостью, и этот его длинный тонкий нос, на кончике которого каким-то немыслимым образом держались очки. Лицо напоминало морду овцы, и голос тоже имел какой-то овечий тон. Гольдштейн проводил свою обычную ядовитую словесную атаку на доктрины Партии – атаку настолько преувеличенную и извращенную, что даже ребенку стало бы понятно, что это полный бред, но при этом все же достаточно правдоподобную, чтобы посеять в ком-то, не столь сообразительном, как он, зерно сомнения и наполнить голову бедняги тревожными мыслями. Он оскорблял Большого Брата, осуждал диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, выкрикивал, что истинная идея революции была предана – и все это в быстрой многосложной речи, которая была своего рода пародией на привычный стиль партийных ораторов и даже содержала слова новояза. На самом деле она содержала даже больше слов новояза, чем обычно использовал любой член Партии в реальной жизни. И все это время, чтобы не возникло никаких сомнений относительно реальности, которую скрывала притворная болтовня Гольдштейна, за его головой на телеэкране маршировали бесконечные колонны евразийской армии – шеренги крепких, абсолютно одинаковых мужчин с невыразительными азиатскими лицами мелькали на экране. Приглушенный ритмичный топот солдатских сапог был фоном для блеющего голоса Гольдштейна.
Не прошло и тридцати секунд с начала Двухминутки ненависти, а половина присутствующих в комнате людей вспыхнула в неконтролируемом порыве ярости и ненависти. Самодовольное овечье лицо на экране и ужасающая мощь евразийской армии, стоящей за ним, были невыносимы. Кроме того, вид или даже мысль о Гольдштейне автоматически вызывали страх и гнев. Он был объектом даже более постоянной ненависти, чем Евразия и Остазия, поскольку, когда Океания находилась в состоянии войны с одной из этих держав, она обычно находилась в мире с другой. Но что было странно, так это то, что хотя Гольдштейна все ненавидели и презирали, а его теории ежедневно опровергались, разбивались и высмеивались как полный вздор и бред (ведь это и был вздор и бред) на собраниях и телеэкранах, в газетах и книгах, его влияние, казалось, никогда не уменьшалось. Всегда были новые обманщики, идущие у него на поводу. Не было и дня, чтобы Полиция мыслей не разоблачала шпионов и саботажников, действующих под его руководством. Он был командиром огромной теневой армии, подпольной сети заговорщиков, занимающихся ниспровержением государства. Говорили, что его организация называется «Братство». А еще люди шептались о том, что существует какая-то ужасная книга, сборник всех ересей, автором которой был Гольдштейн и которую он тайно распространял. Эта книга не имела названия. Люди называли ее просто Книгой. Но все это были лишь туманные слухи. Ни о Братстве, ни о Книге вслух не упоминал ни один член Партии.
На второй минуте ненависть достигла апогея. Люди прыгали икричали во весь голос, пытаясь заглушить сводящий с ума блеющий голос, доносящийся с экрана. Маленькая рыжеволосая женщина раскраснелась, она жадно хватала ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Даже грозное лицо О’Брайена покраснело. Он сидел в своем кресле очень прямо, его мощная грудь вздувалась и дрожала, как будто он противостоял натиску волны. Темноволосая девушка позади Уинстона начала кричать: «Свинья! Свинья! Свинья!» – и вдруг взяла тяжелый словарь новояза и швырнула его в экран. Он попал Гольдштейну в нос и отскочил от него. Гадкий голос неумолимо продолжал вещать. В какой-то момент Уинстон обнаружил, что он кричит вместе с остальными и сильно пинает пяткой перекладину стула. Ужас Двухминутки ненависти был не в том, что человек был вынужден играть роль, а в том, что волей-неволей ты присоединялся к этому безумству и оно тебя захлестывало. Тридцать секунд – и любые притворства были уже не нужны. Ужасный экстаз страха и мстительности, желание убивать, истязать, разбивать лица кувалдой, казалось, протекал через всю группу людей, как электрический ток, превращая твое лицо в сумасшедшую гримасу. И все же ярость, которую каждый испытывал, была абстрактной, не направленной на что-то конкретное, и ее можно было переключить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Таким образом, в какой-то момент ненависть Уинстона была обращена вовсе не против Гольдштейна, а наоборот, против Большого Брата, Партии и Полиции мыслей. В такие моменты его сердце стремилось к одинокому, высмеиваемому всеми еретику на экране, единственному хранителю истины и здравомыслия в этом мире лжи. И тем не менее, в следующее мгновение он уже оказался в единстве с окружающими его людьми, и все, что было сказано о Гольдштейне, казалось ему правдой. В эти моменты его тайное отвращение к Большому Брату сменялось обожанием, и Большой Брат, этот непобедимый, бесстрашный защитник, возвышался и стоял, как скала, против азиатских орд. А Гольдштейн, несмотря на свою изоляцию от цивилизованного общества, беспомощность да и вообще всеобщее сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, способным одной лишь силой своего голоса разрушить все то, что так заботливо создала Партия для своих граждан.
Иногда даже можно было переключить ненависть в ту или иную сторону сознательно. Внезапно, с каким-то неистовым усилием, с которым в кошмаре отрывается голова от подушки, Уинстону удалось перенести свою ненависть с лица на экране на темноволосую девушку позади него. Яркие красивые галлюцинации промелькнули в его голове. Он забивает её до смерти резиновой дубинкой. Он привязывает ее обнаженную к столбу и стреляет в нее стрелами, как в святого Себастьяна. Он насилует ее и перерезает ей горло в момент наивысшего экстаза. Более того, даже лучше, чем раньше, он осознал, почему ненавидит ее. Он ненавидел ее, потому что она была молодой, красивой и при этом всем секс и сексуальность как таковая ее абсолютно не интересовали; потому что он хотел спать с ней, но знал, что этому никогда не бывать, потому что вокруг ее тонкой гибкой талии, которая, казалось, так и просила обвить ее рукой, был обмотан ненавистный алый кушак – агрессивный символ целомудрия.
Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в настоящее блеяние овцы, и на мгновение лицо стало овечьим. Затем овечье лицо растворилось в фигуре евразийского солдата, огромного и ужасного. Казалось, что он со своим неистово грохочущим автоматом сейчас выпрыгнет с экрана прямо на зрителей, так что некоторые люди, сидевшие в передних рядах, испуганно вздрагивали и уклонялись. Но уже в следующий момент, вызвав у всех глубокий выдох облегчения, враждебная фигура растворилась, и ей на смену пришло лицо Большого Брата – черноволосого, черноусого, полного силы и какого-то таинственного и умиротворяющего спокойствия. Лицо его становилось все больше, оно заполнило собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Большой Брат. Это были всего лишь несколько слов ободрения, которые произносятся в грохоте битвы, неразличимые по отдельности, но внушающие уверенность самим фактом их произнесения. Затем лицо Большого Брата снова исчезло, и вместо него жирным шрифтом были выделены три лозунга Партии:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО