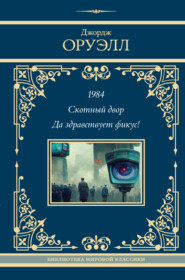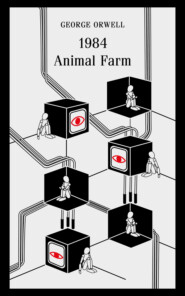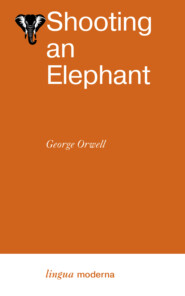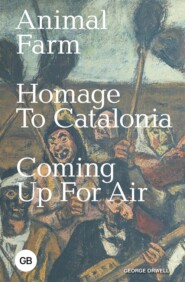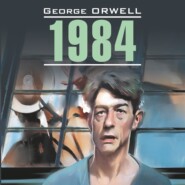По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорога на Уиган-Пирс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сначала тонкая рукопись называлась «Дневником посудомоечной машины», где рассказывалось о его «рабском труде» посудомоя в парижских ресторанах, потом – «Дневником поваренка». Текст этот все издатели бесцеремонно отклонили, но, по счастью, в одном из издательств ему предложили расширить этот рассказ.
И тогда он, по примеру давно прочитанной книги Дж. Лондона «Люди бездны», отправился почти на три года под мосты Лондона и в ночлежки для бездомных. В этом он видел как бы «искупление» за пятилетнюю службу в полиции Бирмы, где с болью и сочувствием наблюдал жизнь действительных рабов британских колонизаторов: их унижения, бесправие, подневольный труд, казни и расстрелы… Уже тогда он осознавал, что ненависть к угнетению захватила все его чувства и переживания. Переводчица Вера Домитеева в одном из предисловий отметила, что этим поступком он «осуществил исконный русский идеал “жить по совести”».
«Жизненная неудача, – напишет он позднее, – представлялась мне тогда единственной добродетелью. Малейший намек на погоню за успехом, даже за таким успехом в жизни, как годовой доход в несколько сот фунтов, казался мне морально отвратительным, чем-то вроде сутенерства…
Я много размышлял на эту тему, – признаётся он, – планировал, как всё продам, раздам, изменю имя – и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из обносков… И доля вины с меня – спадет…»
Его решение «уйти в низы» и описать жизнь нищих[1 - В год 100-летия Оруэлла, в 2003-м, британская газета «Evening Standard» (которая в 1933-м, устами драматурга и романиста Д. Пристли, одной из первых восхитилась «Фунтами лиха») послала корреспондента под мосты и в притоны Лондона – по стопам юбиляра. Послала – и ахнула. Если в годы Оруэлла бездомных в столице Британии было чуть больше 2 тысяч, то в 2003 году их оказалось свыше 50 тысяч.] стало знаковым камертоном ко всему дальнейшему творчеству. Уже тогда, в первой же книге, он понял для себя: всё надо познать из первых рук, во всём – убедиться самому, всё лично попробовать на вкус, на цвет, на зуб, на смысл…
Но, кроме того, этим шагом он впервые заявил и о своих политических пристрастиях – о том, что при любом раскладе он будет на стороне «униженных и оскорбленных».
Но далеко не все готовы были встать – рядом с ним: описанную им «правду жизни» («я просто рассказал, что есть мир, он совсем рядом, и он ждет вас, если вы вдруг окажетесь без денег») никто не хотел печатать. Так, известный поэт и издатель Т.С.Элиот, прочитав рукопись, написал автору: «Мы нашли это очень интересным, но, к сожалению, едва ли возможным для публикации». И лишь Виктор Голланц, издатель откровенно левых взглядов, рискнул и выпустил книгу. Не сделай он этого – мы, возможно, так и не узнали бы писателя, который в будущем перевернет весь мир.
А что же псевдоним его? Считалось, что он взял его лишь для того, чтобы родители не узнали в «исследователе социального дна» своего «благовоспитанного сына». На деле же всё было, конечно, не совсем так. В семье если и не знали в подробностях про отдельные его «панельные подвиги», то о главном, несомненно, догадывались.
Нет, просто после многих переделок рукописи и отказов печатать ее Эрик Блэр очень сомневался в себе – и боялся, что писательский дебют его с треском провалится. Биограф Майкл Шелден отметит: он «не смог бы вынести своего имени на обложке, если бы книга не принесла успеха, он слишком привык считать себя неудачником. С помощью псевдонима он словно хотел избежать ответственности за дальнейшую судьбу книги». На помощь пришла его же «бездна»: ведь в ночлежках и работных домах он давно и привычно представлялся как некто Барток. «Но если вам не кажется, что это имя звучит, – писал он своему издателю, – то что Вы скажете о Кеннете Майлзе, Джордже Оруэлле, Х.Льюисе Олвейзе? Я предпочитаю, – написал, – скорее Джорджа Оруэлла».
Книга не только не провалилась, но стала бестселлером. «Джордж Оруэлл создал великолепную книгу и ценный социальный документ, – писал, вслед за Д.Пристли, солидный литератор К.Маккензи. – Это самая лучшая книга такого рода, которую я читал за последние годы». А в литературном приложении к газете «Times» автора сравнили ни много ни мало с его любимым Диккенсом.
Так родился писатель, и так появилось на свет знакомое всем имя – Джордж Оруэлл, где «Джордж» – это святой покровитель Англии, а «Оруэлл» – имя речушки его детства, где Эрик вырос и ловил когда-то рыбу.
Уже Оруэллом, а не Эриком Блэром, поехал он в командировку от Голланца и его знаменитого тогда «Клуба левой книги», собравшего в Англии более 50 тысяч приверженцев, на север Британии, в шахтерские городки и поселки. Поехал, чтобы рассказать о беспросветной, почти скотской жизни горняков. Так родилась его третья документальная книга – «Дорога на Уиган-Пирс» («The Road to Wigan Pier»).
За три месяца он объехал, точнее сказать обошел (делая по 10–15 миль в день), города Шеффилд, Ковентри, Ливерпуль, Манчестер, Лидс и Бирмингем – и везде видел лишь нищету и голод простых людей. Нищетой его было, впрочем, уже не удивить, а вот почти всеобщая безработица этих районов – ошарашила.
«В первых встречах с безработными меня просто сразило, – напишет он, – что они стыдились своих горестных обстоятельств… Помню собственное изумление, когда я обнаружил, что изрядная доля людей, которых меня приучили считать бандой циничных паразитов, состояла из вполне благонравных молодых шахтеров и ткачей, глядевших на свою судьбу… как звери, угодившие в капкан… Они ведь созданы трудиться, а нате-ка!..»
В этой повести впервые прозвучали две грозные ноты его будущих тревог: нарождающийся в мире фашизм и продажная сущность даже левых партий. В поездке он «лицом к лицу» встречался на митингах и собраниях и с «прожжёными социалистами» (читай – «предателями» тех взглядов, которых уже придерживался он), и с открытым террором нарождающегося в Англии фашизма (видел, как на встрече шахтеров с Освальдом Мосли, фюрером Британского союза фашистов, его молодчики затыкали рты и избивали несогласных с ними рабочих).
«Ситуация отчаянная, – напишет в книге. – Угроза фашизации Европы стремительно растет. И если не удастся очень быстро и широко распространить систему живых, действенных социалистических идей, нет никакой уверенности, что фашизм когда-нибудь будет низвергнут…» Вот только встреченные им «социалисты» его разочаровали… «Да голосует такой за коммунистов, – клеймил он якобы «новых людей», – но по-прежнему крепки его связи с людьми своего круга… Просто большинство благовоспитанных социалистов клещами цепляются за мельчайшие знаки социального престижа». «Правда состоит в том, что для многих людей, именующих себя социалистами, революция не означает движения масс… она означает комплект реформ, которые “мы”, умные, собираемся навязать “им”, существам низшего порядка».
Голланц, его издатель, ждал от командировки Оруэлла серии простеньких «социальных очерков», «быстрого расследования социальных условий жизни и экономической депрессии», – а получил в итоге революционную прокламацию в 150 страниц, которую хоть и напечатал, но с многочисленными оговорками в предисловии. Уж больно самостоятельным и упёртым оказался его подопечный…
Эту книгу можно было бы считать надеждой писателя на выход из всех тех тупиков, в которые вверг рабочих развитой капитализм. Но, увы, в ней он допустил досадную ошибку, о которой при жизни так и не узна?ет. Он связал свою надежду на возрождение региона со знаменитым в тех краях «морским пирсом Уиган». Тогда считалось, что этот заброшенный пирс (и исчезнувший канал к морю) был предназначен для угольных барж и станет оживленным центром торговли. Оруэлл, узнав об этом, не только дал книге звучный заголовок, но и «построил» на этом свои надежды на возрождение края. Жаль, история не подтвердила этого. Оказалось, что спасительного пирса этого не существовало никогда, это была всего лишь красивая легенда. А значит – и это новый, современный и устрашающий «поворот» книги! – последняя надежда Оруэлла на будущие лучшие времена оказалась лишь мистической мечтой. Сегодня на месте складов Уигана, которые Оруэлл принял когда-то за остатки верфей, возник Центр исторического наследия, который носит имя Оруэлла и в котором его книга об Уигане занимает одно из главных мест.
Ну и, наконец, последняя повесть «честной автобиографии» писателя – пожалуй, самая знаменитая публицистическая вещь его, – «Памяти Каталонии» («Homage to Catalonia»), появившаяся на свет в 1938 году. Эта книга – итог его участия в Гражданской войне в Испании, где он взял в руки винтовку, чтобы сражаться с фашизмом Франко. При жизни писателя ее даже не раскупили (было продано лишь 600 экземпляров из полуторатысячного тиража), зато ныне не только переиздают и переводят на десятки языков, но даже снимают по ней фильмы и ставят спектакли.
Гражданская война в Испании – битва ради «смысла жизни» и за «человеческое достоинство», «последняя война идеалистов», как звали ее, – свела в испанских окопах 40000 добровольцев из почти 60 стран: интеллектуалов, художников, философов, киношников… В траншеях под Уэской и Теруэлем сидели и ироничный плейбой Хемингуэй, и чистюля-аристократ Экзюпери, и будущий маршал, министр обороны СССР Малиновский, и совсем уж «гражданский» Эренбург. Эренбург и скажет: «Если для моего поколения остался смысл в словах “человеческое достоинство”, то благодаря Испании». А Оруэлл – на вопрос, за что он дрался, – ответит: «За всеобщую порядочность…».
В Испании, куда он приехал в декабре 1936 года, он будет ранен в шею, и лишь по счастливой случайности останется жив. Но еще больше его ранит, уязвит то, что, помимо войны с фашистами, там, на его глазах, разразится другая, «тайная» война коммунистов с так называемой «пятой колонной» – с рабочими и крестьянами, которые восстали и против фашиствующих франкистов, и против буржуазного строя своей страны. Тысячи беззаветных защитников испанской революции, в том числе защитников-иностранцев, в одночасье были объявлены «троцкистами и предателями», брошены в тюрьмы и расстреляны… Чудом избежал этой участи и сам Оруэлл – которого, как стало известно много позже, тоже ждала камера нашего НКВД в Испании и неизбежный смертный приговор.
Ложь, ложь и ложь с обеих сторон – вот что поразило Оруэлла. Пожалуй, именно это и стало главным поводом для создания предельно честной книги о Гражданской войне: написать о той правде, которую в Европе замалчивали и «правые», и «левые».
«[я начал вдруг читать в газетах] о великих баталиях в сообщениях из тех мест, где вообще не было сражения, и полное молчание хранилось о тех, где были убиты сотни людей. Я читал о храбро сражавшихся войсках, которые описывались как трусы и предатели, и о других, не слышавших выстрела, но которыми восторгались как героями воображаемых побед».
Вот тогда он понял: родилось и окрепло новое «господствующее течение» – политиканствующие социалисты. И он (как и всегда) выступит против этого нового течения: просто потому, что «всякий писатель, который становится под партийные знамёна, рано или поздно оказывается перед выбором: либо подчиниться, либо заткнуться».
«Испанская война и другие события 1936–1937 годов, – подведет он позже итог своей личной войны с несправедливостью, – нарушили во мне равновесие; с тех пор я уже знал, где мое место. Каждая всерьез написанная мною с 1936 года строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимал».
Такой, «новый Оруэлл» был не нужен уже никому; он, как и тысячи рабочих-единомышленников его, стал фактическим врагом и некоторых «братьев по оружию» в Испании, и «лощеных умников», сидевших в безопасной Англии, и Троцкого в изгнании, и Сталина в СССР, и, разумеется, Франко в Мадриде и Гитлера в Берлине.
«Памяти Каталонии» называют сегодня «вторым рождением писателя», ибо она стала прологом, грозным аккордом к его финальным шедеврам – «Скотному двору» и роману «1984», а ее автора тогда же назвали «Дон Кихотом ХХ века» – за смелость встать во весь рост против любой несправедливости, за выбранную позицию и за «простую порядочность», которую он считал главным «масштабом цивилизации».
И нашей – сегодняшней – цивилизации.
Правда и неправда… Простые слова.
Такие же, как любовь и ненависть. Но может ли химически чистая ненависть «водить» пером писателя? И не стоит ли за громкими обличениями, дымящейся полемикой прозы, за словами, «облитыми горечью и злостью», – как раз любовь, любовь к правде и справедливости, и, главное, к тем людям, к простому человеку, из-за кого и «ломают копья» дон кихоты?
Трудные парадоксы для любого критика или литературоведа. Но вот мнение французского классика Анатоля Франса. Однажды к нему пожаловал британский литературовед и спросил: есть ли точные признаки, по которым мы можем определить «великую книгу»?
– А какие признаки вам кажется обязательными? – спросил его Франс.
– Владение композицией, чистый язык, мастерское построение сюжета, умение строить выразительные и разнообразные характеры… – начал перечислять литературовед.
– Сделаем тут остановку, – прервал его собеседник. – Владение композицией?.. Едва ли кто-нибудь станет отрицать, что Рабле – великий писатель. Между тем его романы о Гаргантюа и Пантагрюэле – рыхлы, неуклюжи и чудовищно тяжеловесны. А восторженные почитатели Пруста не отрицают, что роман его… нечто громадное и бесформенное. Очевидно, этот критерий отпадает. Чистота языка?.. Язык Шекспира не осмелится назвать чистым и ясным даже самый пламенный его адепт. Неблагозвучная, плюющая на все правила хорошего литературного тона речь обладает невероятной мощью – она-то и делает Шекспира гением. Флобер говорил о первом нашем романисте: «Каким бы человеком был Бальзак, если бы умел писать!». Но Бальзак с его длиннотами и косноязычием стоит выше пуриста Флобера. Значит, побоку и чистый язык… Богатство характеров? Вроде бы бесспорно. Только нам придется выбросить… самого Байрона: и в поэмах, и в трагедиях он живописует один и тот же характер – свой собственный. Какие еще взять критерии?..
– Не надо, – уныло оборвал его англичанин. – Значит, вообще не существует признака, по которому можно было определить великого писателя?
– Есть, – спокойно ответил Анатоль Франс. – Любовь к людям.
Да, любовь к людям, а не ненависть, – вот единственное спасение от мировых катаклизмов. И как раз эта любовь и делает Оруэлла и его книги – великими.
«Быть раздавленным жизнью… за свою любовь к другим людям…» – подвел он итог своему творчеству, которое детонировало не от умопомрачительных «love story», не от заковыристых коллизий быта, забавных «интриг» общества или «исповедей» разочаровавшихся в жизни, – нет, оно взрывалось от кровоточащих ран человеческих, дышащего угаром рабства, попранной свободы и неслышных миру стенаний узников совести.
Любил людей! Нищего художника, знавшего карту неба и видевшего звёзды слезящимися глазами, девушку, чистящую палкой на морозе грязную сточную канаву, незнакомого ему солдата-итальянца, решившего умереть за испанскую свободу… Любовь писателя – это и есть единственная по жизни дорога его.
«Он сочинял судьбу, торя тропу не столь широкую, сколь глубокую», – сказала о нем В.А.Чаликова. Проходной, казалось бы, образ – тропа. Так вот, в далекой Испании, в арагонских горах, где Оруэлл держал бой с фашизмом и где «родился вторично», сохранилась, представьте, не образная, не метафорическая – а реальная «тропа Оруэлла». Тонкая нить, по которой он ходил ночами на нейтральную полосу собирать забытую в земле картошку вчерашнего, мирного еще урожая. Ради спасения полуголодных братьев по оружию: тоже ведь война – война за жизнь.
Эта тропка его «живет» с 1936 года; ее показывают ныне любому туристу. Найдите ее, если будете в Испании. Не всякая, конечно, тропа указывает людям нужный, единственно верный путь. Но эта – верю! – укажет.
Вячеслав Недошивин
Славно, славно мы резвились
1
Вскоре после приезда в школу Св. Киприана (не сразу, а пару недель спустя, уже привыкнув вроде к школьному регламенту) я начал писаться ночами. Мне было восемь лет, так что вернулась беда минимум четырехлетней давности. Сегодня ночное недержание при подобных обстоятельствах видится следствием естественным – нормальная реакция ребенка, которого, вырвав из дома, воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, злонамеренным и подлежащим исправлению путем порки. И меня-то не требовалось убеждать в преступности деяния. Ночь за ночью я молился с жаром, дотоле мне неведомым: «Господи, прошу, не дай описаться! Господи, молю тебя, пожалуйста!..» – однако на удивление бесплодно. В иные ночи это происходило, в иные – нет. Ни воля, ни сознание не влияли. Собственно, сам ты не участвовал: просто наутро просыпался и обнаруживал свою постель насквозь мокрой.
После второго-третьего случая меня предупредили, что в следующий раз накажут, причем уведомление я получил довольно любопытным образом. Однажды в полдник, под конец общего чаепития, восседавшая во главе одного из столов жена директора миссис Уилкс беседовала с дамой, о которой я не знал ничего, кроме того, что леди посетила нашу школу. Пугающего вида дама, мужеподобная и в амазонке (или в том, что я принимал за амазонку). Я уже выходил из комнаты, когда миссис Уилкс подозвала меня, словно желая представить гостье.
Миссис Уилкс имела прозвище Флип[3 - Звукоподражательное слово типа «хлоп!», «шлеп!».], так я и буду ее называть, ибо так она значится в моей памяти. (Официально мы ее величали «мдэм» – искаженное устами школьников «мадам», как следовало обращаться к женам заведующих пансионами.) Коренастая плечистая женщина с тугими красными щеками, приплюснутой макушкой и блестевшими из пещеры под мощным выступом бровей глазами судебного обвинителя, Флип обычно тщилась изображать добродушие компанейски мужского тона («веселей, парни!» и т.?п.), но и в этом сердечном общении взгляд ее не терял бдительной неприязни. Даже не числя себя виноватым, трудно было смотреть ей в лицо без ощущения своей вины.
– Вот мальчик, – сообщила она странной леди, – который каждую ночь мочится в кровати. И знаешь, что я сделаю, если ты снова намочишь постель? – добавила она, повернувшись ко мне. – Дам задание команде шестых тебя отлупцевать.
– Да уж, придется! – потрясенно ахнув, воскликнула странная леди.
И здесь произошла одна из диких, бредовых путаниц, обычных в детской повседневности. «Командой шестых» в школе именовалась группа старшеклассников «с характером», а стало быть, с правами колотить мелюзгу. Я не подозревал еще об их существовании и с перепугу вместо «команда шестых» услышал «мадам Шестых», отнеся это к странной даме, сочтя ее именем. Имя невероятное, но дети в таких вещах не разбираются. Представилось, что леди и есть тот, кому поручат меня выпороть. Показалось вполне правдоподобным, что миссию выполнит случайная гостья, со школой никак не связанная. «Мадам Шестых» увиделась суровой ревнительницей дисциплины, любительницей избивать людей (наружность леди чем-то подтверждала этот образ), и вмиг возникла жуткая картина ее прибытия на казнь в полном боевом облачении для верховой езды, с хлыстом. По сей день изнемогаю от стыда, вспомнив себя стоящим перед теми дамами маленьким круглолицым мальчиком в коротких вельветовых штанишках. Я онемел. Я чувствовал, что впереди смерть под хлыстом «мадам Шестых». Но доминировали не страх, не обида – позорнейший позор, поскольку еще одному человеку, и притом женщине, стало известно о моей гнусной преступности.
И тогда он, по примеру давно прочитанной книги Дж. Лондона «Люди бездны», отправился почти на три года под мосты Лондона и в ночлежки для бездомных. В этом он видел как бы «искупление» за пятилетнюю службу в полиции Бирмы, где с болью и сочувствием наблюдал жизнь действительных рабов британских колонизаторов: их унижения, бесправие, подневольный труд, казни и расстрелы… Уже тогда он осознавал, что ненависть к угнетению захватила все его чувства и переживания. Переводчица Вера Домитеева в одном из предисловий отметила, что этим поступком он «осуществил исконный русский идеал “жить по совести”».
«Жизненная неудача, – напишет он позднее, – представлялась мне тогда единственной добродетелью. Малейший намек на погоню за успехом, даже за таким успехом в жизни, как годовой доход в несколько сот фунтов, казался мне морально отвратительным, чем-то вроде сутенерства…
Я много размышлял на эту тему, – признаётся он, – планировал, как всё продам, раздам, изменю имя – и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из обносков… И доля вины с меня – спадет…»
Его решение «уйти в низы» и описать жизнь нищих[1 - В год 100-летия Оруэлла, в 2003-м, британская газета «Evening Standard» (которая в 1933-м, устами драматурга и романиста Д. Пристли, одной из первых восхитилась «Фунтами лиха») послала корреспондента под мосты и в притоны Лондона – по стопам юбиляра. Послала – и ахнула. Если в годы Оруэлла бездомных в столице Британии было чуть больше 2 тысяч, то в 2003 году их оказалось свыше 50 тысяч.] стало знаковым камертоном ко всему дальнейшему творчеству. Уже тогда, в первой же книге, он понял для себя: всё надо познать из первых рук, во всём – убедиться самому, всё лично попробовать на вкус, на цвет, на зуб, на смысл…
Но, кроме того, этим шагом он впервые заявил и о своих политических пристрастиях – о том, что при любом раскладе он будет на стороне «униженных и оскорбленных».
Но далеко не все готовы были встать – рядом с ним: описанную им «правду жизни» («я просто рассказал, что есть мир, он совсем рядом, и он ждет вас, если вы вдруг окажетесь без денег») никто не хотел печатать. Так, известный поэт и издатель Т.С.Элиот, прочитав рукопись, написал автору: «Мы нашли это очень интересным, но, к сожалению, едва ли возможным для публикации». И лишь Виктор Голланц, издатель откровенно левых взглядов, рискнул и выпустил книгу. Не сделай он этого – мы, возможно, так и не узнали бы писателя, который в будущем перевернет весь мир.
А что же псевдоним его? Считалось, что он взял его лишь для того, чтобы родители не узнали в «исследователе социального дна» своего «благовоспитанного сына». На деле же всё было, конечно, не совсем так. В семье если и не знали в подробностях про отдельные его «панельные подвиги», то о главном, несомненно, догадывались.
Нет, просто после многих переделок рукописи и отказов печатать ее Эрик Блэр очень сомневался в себе – и боялся, что писательский дебют его с треском провалится. Биограф Майкл Шелден отметит: он «не смог бы вынести своего имени на обложке, если бы книга не принесла успеха, он слишком привык считать себя неудачником. С помощью псевдонима он словно хотел избежать ответственности за дальнейшую судьбу книги». На помощь пришла его же «бездна»: ведь в ночлежках и работных домах он давно и привычно представлялся как некто Барток. «Но если вам не кажется, что это имя звучит, – писал он своему издателю, – то что Вы скажете о Кеннете Майлзе, Джордже Оруэлле, Х.Льюисе Олвейзе? Я предпочитаю, – написал, – скорее Джорджа Оруэлла».
Книга не только не провалилась, но стала бестселлером. «Джордж Оруэлл создал великолепную книгу и ценный социальный документ, – писал, вслед за Д.Пристли, солидный литератор К.Маккензи. – Это самая лучшая книга такого рода, которую я читал за последние годы». А в литературном приложении к газете «Times» автора сравнили ни много ни мало с его любимым Диккенсом.
Так родился писатель, и так появилось на свет знакомое всем имя – Джордж Оруэлл, где «Джордж» – это святой покровитель Англии, а «Оруэлл» – имя речушки его детства, где Эрик вырос и ловил когда-то рыбу.
Уже Оруэллом, а не Эриком Блэром, поехал он в командировку от Голланца и его знаменитого тогда «Клуба левой книги», собравшего в Англии более 50 тысяч приверженцев, на север Британии, в шахтерские городки и поселки. Поехал, чтобы рассказать о беспросветной, почти скотской жизни горняков. Так родилась его третья документальная книга – «Дорога на Уиган-Пирс» («The Road to Wigan Pier»).
За три месяца он объехал, точнее сказать обошел (делая по 10–15 миль в день), города Шеффилд, Ковентри, Ливерпуль, Манчестер, Лидс и Бирмингем – и везде видел лишь нищету и голод простых людей. Нищетой его было, впрочем, уже не удивить, а вот почти всеобщая безработица этих районов – ошарашила.
«В первых встречах с безработными меня просто сразило, – напишет он, – что они стыдились своих горестных обстоятельств… Помню собственное изумление, когда я обнаружил, что изрядная доля людей, которых меня приучили считать бандой циничных паразитов, состояла из вполне благонравных молодых шахтеров и ткачей, глядевших на свою судьбу… как звери, угодившие в капкан… Они ведь созданы трудиться, а нате-ка!..»
В этой повести впервые прозвучали две грозные ноты его будущих тревог: нарождающийся в мире фашизм и продажная сущность даже левых партий. В поездке он «лицом к лицу» встречался на митингах и собраниях и с «прожжёными социалистами» (читай – «предателями» тех взглядов, которых уже придерживался он), и с открытым террором нарождающегося в Англии фашизма (видел, как на встрече шахтеров с Освальдом Мосли, фюрером Британского союза фашистов, его молодчики затыкали рты и избивали несогласных с ними рабочих).
«Ситуация отчаянная, – напишет в книге. – Угроза фашизации Европы стремительно растет. И если не удастся очень быстро и широко распространить систему живых, действенных социалистических идей, нет никакой уверенности, что фашизм когда-нибудь будет низвергнут…» Вот только встреченные им «социалисты» его разочаровали… «Да голосует такой за коммунистов, – клеймил он якобы «новых людей», – но по-прежнему крепки его связи с людьми своего круга… Просто большинство благовоспитанных социалистов клещами цепляются за мельчайшие знаки социального престижа». «Правда состоит в том, что для многих людей, именующих себя социалистами, революция не означает движения масс… она означает комплект реформ, которые “мы”, умные, собираемся навязать “им”, существам низшего порядка».
Голланц, его издатель, ждал от командировки Оруэлла серии простеньких «социальных очерков», «быстрого расследования социальных условий жизни и экономической депрессии», – а получил в итоге революционную прокламацию в 150 страниц, которую хоть и напечатал, но с многочисленными оговорками в предисловии. Уж больно самостоятельным и упёртым оказался его подопечный…
Эту книгу можно было бы считать надеждой писателя на выход из всех тех тупиков, в которые вверг рабочих развитой капитализм. Но, увы, в ней он допустил досадную ошибку, о которой при жизни так и не узна?ет. Он связал свою надежду на возрождение региона со знаменитым в тех краях «морским пирсом Уиган». Тогда считалось, что этот заброшенный пирс (и исчезнувший канал к морю) был предназначен для угольных барж и станет оживленным центром торговли. Оруэлл, узнав об этом, не только дал книге звучный заголовок, но и «построил» на этом свои надежды на возрождение края. Жаль, история не подтвердила этого. Оказалось, что спасительного пирса этого не существовало никогда, это была всего лишь красивая легенда. А значит – и это новый, современный и устрашающий «поворот» книги! – последняя надежда Оруэлла на будущие лучшие времена оказалась лишь мистической мечтой. Сегодня на месте складов Уигана, которые Оруэлл принял когда-то за остатки верфей, возник Центр исторического наследия, который носит имя Оруэлла и в котором его книга об Уигане занимает одно из главных мест.
Ну и, наконец, последняя повесть «честной автобиографии» писателя – пожалуй, самая знаменитая публицистическая вещь его, – «Памяти Каталонии» («Homage to Catalonia»), появившаяся на свет в 1938 году. Эта книга – итог его участия в Гражданской войне в Испании, где он взял в руки винтовку, чтобы сражаться с фашизмом Франко. При жизни писателя ее даже не раскупили (было продано лишь 600 экземпляров из полуторатысячного тиража), зато ныне не только переиздают и переводят на десятки языков, но даже снимают по ней фильмы и ставят спектакли.
Гражданская война в Испании – битва ради «смысла жизни» и за «человеческое достоинство», «последняя война идеалистов», как звали ее, – свела в испанских окопах 40000 добровольцев из почти 60 стран: интеллектуалов, художников, философов, киношников… В траншеях под Уэской и Теруэлем сидели и ироничный плейбой Хемингуэй, и чистюля-аристократ Экзюпери, и будущий маршал, министр обороны СССР Малиновский, и совсем уж «гражданский» Эренбург. Эренбург и скажет: «Если для моего поколения остался смысл в словах “человеческое достоинство”, то благодаря Испании». А Оруэлл – на вопрос, за что он дрался, – ответит: «За всеобщую порядочность…».
В Испании, куда он приехал в декабре 1936 года, он будет ранен в шею, и лишь по счастливой случайности останется жив. Но еще больше его ранит, уязвит то, что, помимо войны с фашистами, там, на его глазах, разразится другая, «тайная» война коммунистов с так называемой «пятой колонной» – с рабочими и крестьянами, которые восстали и против фашиствующих франкистов, и против буржуазного строя своей страны. Тысячи беззаветных защитников испанской революции, в том числе защитников-иностранцев, в одночасье были объявлены «троцкистами и предателями», брошены в тюрьмы и расстреляны… Чудом избежал этой участи и сам Оруэлл – которого, как стало известно много позже, тоже ждала камера нашего НКВД в Испании и неизбежный смертный приговор.
Ложь, ложь и ложь с обеих сторон – вот что поразило Оруэлла. Пожалуй, именно это и стало главным поводом для создания предельно честной книги о Гражданской войне: написать о той правде, которую в Европе замалчивали и «правые», и «левые».
«[я начал вдруг читать в газетах] о великих баталиях в сообщениях из тех мест, где вообще не было сражения, и полное молчание хранилось о тех, где были убиты сотни людей. Я читал о храбро сражавшихся войсках, которые описывались как трусы и предатели, и о других, не слышавших выстрела, но которыми восторгались как героями воображаемых побед».
Вот тогда он понял: родилось и окрепло новое «господствующее течение» – политиканствующие социалисты. И он (как и всегда) выступит против этого нового течения: просто потому, что «всякий писатель, который становится под партийные знамёна, рано или поздно оказывается перед выбором: либо подчиниться, либо заткнуться».
«Испанская война и другие события 1936–1937 годов, – подведет он позже итог своей личной войны с несправедливостью, – нарушили во мне равновесие; с тех пор я уже знал, где мое место. Каждая всерьез написанная мною с 1936 года строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимал».
Такой, «новый Оруэлл» был не нужен уже никому; он, как и тысячи рабочих-единомышленников его, стал фактическим врагом и некоторых «братьев по оружию» в Испании, и «лощеных умников», сидевших в безопасной Англии, и Троцкого в изгнании, и Сталина в СССР, и, разумеется, Франко в Мадриде и Гитлера в Берлине.
«Памяти Каталонии» называют сегодня «вторым рождением писателя», ибо она стала прологом, грозным аккордом к его финальным шедеврам – «Скотному двору» и роману «1984», а ее автора тогда же назвали «Дон Кихотом ХХ века» – за смелость встать во весь рост против любой несправедливости, за выбранную позицию и за «простую порядочность», которую он считал главным «масштабом цивилизации».
И нашей – сегодняшней – цивилизации.
Правда и неправда… Простые слова.
Такие же, как любовь и ненависть. Но может ли химически чистая ненависть «водить» пером писателя? И не стоит ли за громкими обличениями, дымящейся полемикой прозы, за словами, «облитыми горечью и злостью», – как раз любовь, любовь к правде и справедливости, и, главное, к тем людям, к простому человеку, из-за кого и «ломают копья» дон кихоты?
Трудные парадоксы для любого критика или литературоведа. Но вот мнение французского классика Анатоля Франса. Однажды к нему пожаловал британский литературовед и спросил: есть ли точные признаки, по которым мы можем определить «великую книгу»?
– А какие признаки вам кажется обязательными? – спросил его Франс.
– Владение композицией, чистый язык, мастерское построение сюжета, умение строить выразительные и разнообразные характеры… – начал перечислять литературовед.
– Сделаем тут остановку, – прервал его собеседник. – Владение композицией?.. Едва ли кто-нибудь станет отрицать, что Рабле – великий писатель. Между тем его романы о Гаргантюа и Пантагрюэле – рыхлы, неуклюжи и чудовищно тяжеловесны. А восторженные почитатели Пруста не отрицают, что роман его… нечто громадное и бесформенное. Очевидно, этот критерий отпадает. Чистота языка?.. Язык Шекспира не осмелится назвать чистым и ясным даже самый пламенный его адепт. Неблагозвучная, плюющая на все правила хорошего литературного тона речь обладает невероятной мощью – она-то и делает Шекспира гением. Флобер говорил о первом нашем романисте: «Каким бы человеком был Бальзак, если бы умел писать!». Но Бальзак с его длиннотами и косноязычием стоит выше пуриста Флобера. Значит, побоку и чистый язык… Богатство характеров? Вроде бы бесспорно. Только нам придется выбросить… самого Байрона: и в поэмах, и в трагедиях он живописует один и тот же характер – свой собственный. Какие еще взять критерии?..
– Не надо, – уныло оборвал его англичанин. – Значит, вообще не существует признака, по которому можно было определить великого писателя?
– Есть, – спокойно ответил Анатоль Франс. – Любовь к людям.
Да, любовь к людям, а не ненависть, – вот единственное спасение от мировых катаклизмов. И как раз эта любовь и делает Оруэлла и его книги – великими.
«Быть раздавленным жизнью… за свою любовь к другим людям…» – подвел он итог своему творчеству, которое детонировало не от умопомрачительных «love story», не от заковыристых коллизий быта, забавных «интриг» общества или «исповедей» разочаровавшихся в жизни, – нет, оно взрывалось от кровоточащих ран человеческих, дышащего угаром рабства, попранной свободы и неслышных миру стенаний узников совести.
Любил людей! Нищего художника, знавшего карту неба и видевшего звёзды слезящимися глазами, девушку, чистящую палкой на морозе грязную сточную канаву, незнакомого ему солдата-итальянца, решившего умереть за испанскую свободу… Любовь писателя – это и есть единственная по жизни дорога его.
«Он сочинял судьбу, торя тропу не столь широкую, сколь глубокую», – сказала о нем В.А.Чаликова. Проходной, казалось бы, образ – тропа. Так вот, в далекой Испании, в арагонских горах, где Оруэлл держал бой с фашизмом и где «родился вторично», сохранилась, представьте, не образная, не метафорическая – а реальная «тропа Оруэлла». Тонкая нить, по которой он ходил ночами на нейтральную полосу собирать забытую в земле картошку вчерашнего, мирного еще урожая. Ради спасения полуголодных братьев по оружию: тоже ведь война – война за жизнь.
Эта тропка его «живет» с 1936 года; ее показывают ныне любому туристу. Найдите ее, если будете в Испании. Не всякая, конечно, тропа указывает людям нужный, единственно верный путь. Но эта – верю! – укажет.
Вячеслав Недошивин
Славно, славно мы резвились
1
Вскоре после приезда в школу Св. Киприана (не сразу, а пару недель спустя, уже привыкнув вроде к школьному регламенту) я начал писаться ночами. Мне было восемь лет, так что вернулась беда минимум четырехлетней давности. Сегодня ночное недержание при подобных обстоятельствах видится следствием естественным – нормальная реакция ребенка, которого, вырвав из дома, воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, злонамеренным и подлежащим исправлению путем порки. И меня-то не требовалось убеждать в преступности деяния. Ночь за ночью я молился с жаром, дотоле мне неведомым: «Господи, прошу, не дай описаться! Господи, молю тебя, пожалуйста!..» – однако на удивление бесплодно. В иные ночи это происходило, в иные – нет. Ни воля, ни сознание не влияли. Собственно, сам ты не участвовал: просто наутро просыпался и обнаруживал свою постель насквозь мокрой.
После второго-третьего случая меня предупредили, что в следующий раз накажут, причем уведомление я получил довольно любопытным образом. Однажды в полдник, под конец общего чаепития, восседавшая во главе одного из столов жена директора миссис Уилкс беседовала с дамой, о которой я не знал ничего, кроме того, что леди посетила нашу школу. Пугающего вида дама, мужеподобная и в амазонке (или в том, что я принимал за амазонку). Я уже выходил из комнаты, когда миссис Уилкс подозвала меня, словно желая представить гостье.
Миссис Уилкс имела прозвище Флип[3 - Звукоподражательное слово типа «хлоп!», «шлеп!».], так я и буду ее называть, ибо так она значится в моей памяти. (Официально мы ее величали «мдэм» – искаженное устами школьников «мадам», как следовало обращаться к женам заведующих пансионами.) Коренастая плечистая женщина с тугими красными щеками, приплюснутой макушкой и блестевшими из пещеры под мощным выступом бровей глазами судебного обвинителя, Флип обычно тщилась изображать добродушие компанейски мужского тона («веселей, парни!» и т.?п.), но и в этом сердечном общении взгляд ее не терял бдительной неприязни. Даже не числя себя виноватым, трудно было смотреть ей в лицо без ощущения своей вины.
– Вот мальчик, – сообщила она странной леди, – который каждую ночь мочится в кровати. И знаешь, что я сделаю, если ты снова намочишь постель? – добавила она, повернувшись ко мне. – Дам задание команде шестых тебя отлупцевать.
– Да уж, придется! – потрясенно ахнув, воскликнула странная леди.
И здесь произошла одна из диких, бредовых путаниц, обычных в детской повседневности. «Командой шестых» в школе именовалась группа старшеклассников «с характером», а стало быть, с правами колотить мелюзгу. Я не подозревал еще об их существовании и с перепугу вместо «команда шестых» услышал «мадам Шестых», отнеся это к странной даме, сочтя ее именем. Имя невероятное, но дети в таких вещах не разбираются. Представилось, что леди и есть тот, кому поручат меня выпороть. Показалось вполне правдоподобным, что миссию выполнит случайная гостья, со школой никак не связанная. «Мадам Шестых» увиделась суровой ревнительницей дисциплины, любительницей избивать людей (наружность леди чем-то подтверждала этот образ), и вмиг возникла жуткая картина ее прибытия на казнь в полном боевом облачении для верховой езды, с хлыстом. По сей день изнемогаю от стыда, вспомнив себя стоящим перед теми дамами маленьким круглолицым мальчиком в коротких вельветовых штанишках. Я онемел. Я чувствовал, что впереди смерть под хлыстом «мадам Шестых». Но доминировали не страх, не обида – позорнейший позор, поскольку еще одному человеку, и притом женщине, стало известно о моей гнусной преступности.