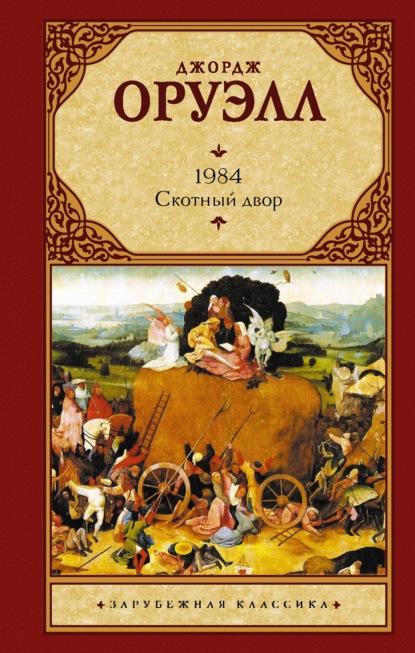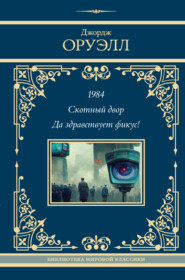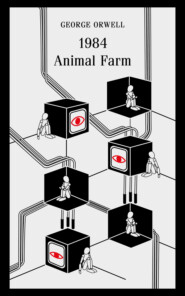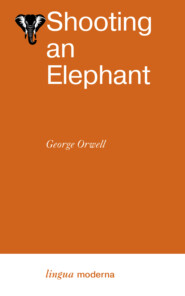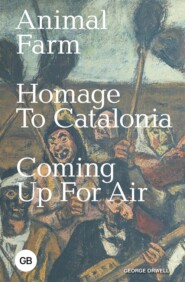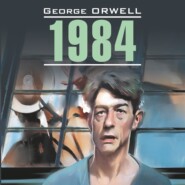По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984. Скотный двор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты предатель! – орал мальчишка. – Помыслокриминал! Евразийский шпион! Я тебя застрелю, сотру в порошок, пошлю на соляные копи!
И вот уже оба ребенка заскакали вокруг Уинстона с воплями «Предатель!» и «Помыслокриминал!», причем девочка повторяла каждое движение брата. Зрелище слегка пугало, как игра зверенышей, из которых вырастут тигры-людоеды. Во взгляде мальчугана читались расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть соседа и осознание того, что совсем скоро такое будет ему по силам. Хорошо хоть пистолет ненастоящий, подумал Уинстон.
Взгляд миссис Парсонс заметался от гостя к детям и обратно. Освещение в гостиной было ярче, и Уинстон с интересом отметил, что в складки ее лица и в самом деле набилась пыль.
– Вот ведь расшумелись, – пробормотала женщина. – Расстроились, что на казнь не попали. У меня дел полно, Том на работе.
– Почему мы не пошли на казнь?! – проревел мальчик во все горло.
– Хочу смотреть на казнь! Хочу смотреть на казнь! – скандировала его сестрица, пританцовывая.
Уинстон вспомнил, что вечером в парке намечено вешать евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Массовое зрелище происходило примерно раз в месяц, и дети всегда шумно требовали, чтобы их взяли посмотреть. Уинстон, попрощавшись с миссис Парсонс, пошел к двери. Не успел он пройти по коридору и шести шагов, как шею обожгло болью, в нее словно воткнули раскаленный провод. Уинстон резко обернулся: миссис Парсонс затаскивала в квартиру сына, сующего в карман рогатку.
– Гольдштейн! – рычал ребенок, исчезая за дверью. Больше всего Уинстона впечатлило выражение беспомощности на посеревшем лице женщины.
В своей квартире он торопливо шмыгнул мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка прекратилась. Отрывистый военный голос со свирепым наслаждением перечислял вооружение новой Плавучей крепости, вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.
С такими детьми, подумал Уинстон, жизнь несчастной женщины – сплошной ужас. Годик-другой, и они примутся шпионить за ней день и ночь, надеясь подловить на инакомыслии. Сейчас почти все дети такие. Самое страшное, что организации вроде Разведчиков целенаправленно превращают детей в неуправляемых зверят. Как ни странно, желания бунтовать против Партии у них не возникает. Наоборот, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, транспаранты, ходьба строем, тренировки с муляжами винтовок, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – для них это упоительная игра. Вся детская ярость направлена вовне: против врагов державы, против иностранцев, предателей, диверсантов, помыслокриминалов. Бояться собственных детей стало почти обыденностью для родителей, кому слегка за тридцать. Недаром и недели не проходит без того, чтобы «Таймс» не сообщила об очередных мелких пронырах (официально таких называют «маленькими героями»), подслушавших взрослый разговор и сдавших родителей полиции помыслов.
Жжение в шее прошло. Уинстон нерешительно взялся за перо, гадая, удастся ли записать в дневник еще что-нибудь. Внезапно ему снова вспомнился О’Брайен.
Давным-давно, лет семь назад, Уинстону приснилось, что он бредет в кромешной темноте. И вдруг голос сбоку тихо произнес: «Мы встретимся там, где нет темноты». Прозвучала фраза как бы между прочим. Он прошел не останавливаясь. Любопытно, что во сне слова не произвели на него особого впечатления. В полной мере Уинстон проникся ими не сразу, а гораздо позже. Он не помнил, когда впервые увидел О’Брайена, до или после того сна, не помнил, когда впервые осознал, что голос из сна принадлежит О’Брайену. Так или иначе, одно Уинстон знал наверняка: из темноты с ним заговорил именно О’Брайен.
Даже после сегодняшнего обмена взглядами Уинстону так и не удалось разобраться, друг О’Брайен или враг. Впрочем, какая разница? Между ними возникло понимание. Такие узы связывают гораздо крепче, чем узы любви или дружбы. «Мы встретимся там, где нет темноты», – пообещал тот. Уинстон не понимал, что это значит, лишь чувствовал, что так или иначе это сбудется.
Телеэкран умолк. В спертом воздухе раздался чистый, красивый звук военного горна. Голос отрывисто продолжил:
– Внимание! Внимание! Экстренное сообщение с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали важную победу. Я уполномочен объявить, что сегодняшние события могут значительно приблизить окончание войны. Смотрите сводку…
Грядут плохие новости, подумал Уинстон. И точно: следом за кровавыми подробностями уничтожения евразийской армии, после перечисления количества убитых и взятых в плен объявили, что со следующей недели норма шоколада на душу населения сократится с тридцати граммов до двадцати.
Уинстон снова рыгнул. Джин выветривался, после него оставалось ощущение опустошенности. Телеэкран разразился бравурными звуками гимна «Океания, все для тебя», то ли отпраздновать победу над Евразией, то ли заглушить боль от утраты шоколада. Гимн полагалось слушать по стойке смирно, но Уинстон воспользовался тем, что за столом его не видно.
«Океания, все для тебя» сменилась музыкой полегче. Уинстон подошел к окну, держась к телеэкрану спиной. Погода все такая же холодная и ясная. Вдалеке глухо, раскатисто проревело, взорвалась авиабомба. Каждую неделю таких на Лондон сбрасывали около двадцати или тридцати.
На улице ветер судорожно трепал рваный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Заветные принципы ангсоца. Новослов, двоемыслие, непостоянство прошлого. Уинстон словно бродил по подводному лесу на дне океана, заблудившись в мире чудищ, где ты и сам чудище. Он один. Прошлое мертво, будущее вообразить нельзя. Разве можно рассчитывать, что обретешь хотя бы одного сторонника? Как узнать, что владычество Партии не будет длиться вечно? Как ответ всплыли в памяти три лозунга на белой стене министерства правды:
ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА
Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней мелким шрифтом выбиты те же лозунги, на обороте – голова Большого Брата. Глаза следят за тобой даже с монет, с марок, с обложек книг, с растяжек поперек улиц, с плакатов, с папиросных пачек – отовсюду. Глаза следят, голос обволакивает. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или отдыхаешь, моешься в ванне или лежишь в постели – от них не укрыться. У тебя нет ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри собственного черепа.
Солнце ушло, бесчисленные окна министерства правды погасли и стали похожи на мрачные бойницы крепости. При виде огромадной пирамиды Уинстон совсем пал духом. Слишком крепка: приступом не возьмешь. Такую и тысячей ракетных боеголовок не сшибешь. Уинстон снова задумался, ради чего взялся за дневник. Ради будущего, ради прошлого – ради времени, которое, может, лишь грезится. Перед ним же маячила не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, его самого – в испарение. Лишь полиция помыслов прочтет им написанное, прежде чем изъять это из бытия и из памяти. Как взывать к будущему, если от тебя не останется ни следа, ни даже невесть кем написанного словца на клочке бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать. Еще десять минут, и надо выходить: обеденный перерыв заканчивался через полчаса.
Как ни странно, бой часов подкрепил его дух. Уинстон был одиноким призраком, шепчущим правду, которую никому не услышать. Только пока он ее шепчет, каким-то неясным образом связь времен не рвется. Наследие человечества несет не тот, кого слышат, а тот, кто сохраняет рассудок. Он вернулся к столу, макнул перо в чернильницу и записал:
Из эпохи уравниловки, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата, из эпохи двоемыслия приветствую будущее или прошлое, времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются один от другого и не живут поодиночке, времена, где существует правда и сделанное нельзя переиначить!
Он уже мертвец, подумал Уинстон. Показалось, что только теперь, взявшись и обретя способность выражать мысли на бумаге, он и предпринял решающий шаг. Последствия любого поступка в самом же поступке и содержатся. Он вывел:
Помыслокриминал не влечет за собой смерть: он и есть смерть.
Теперь, осознав себя мертвецом, Уинстон понял, как важно оставаться в живых как можно дольше. Пальцы правой руки запачкались в чернилах. Именно такая деталь и может выдать. Какой-нибудь пронырливый товарищ в министерстве (скорее всего, женщина – вроде той тощей блондинки или девицы из департамента беллетристики) начнет интересоваться, почему ты работал во время обеденного перерыва, почему воспользовался старомодным пером, что именно писал, и сообщит куда следует. Уинстон пошел в ванную и тщательно смыл чернила шершавым, как наждак, темно-коричневым мылом: для этой цели оно годилось прекрасно.
Дневник он убрал в ящик стола. Прятать не имеет смысла, зато по крайней мере можно проверить, обнаружили его или нет. Волосок поперек уголка сразу бросится в глаза. Подцепив ногтем едва заметную крупинку белесой пыли, Уинстон перенес ее на угол обложки: если книгу подвинуть, непременно слетит.
III
Уинстону снилась мама.
Когда она исчезла, ему было, если подсчитать, лет десять-одиннадцать. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавной грацией и великолепными светлыми волосами. Отец помнился более смутно: смуглый, худой, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону почему-то особенно запали в память его туфли на тонкой подошве) и в очках. Оба, очевидно, сгинули еще в одной из первых великих чисток пятидесятых годов.
А сейчас мама сидела где-то далеко внизу с его младшей сестренкой на руках. Сестру он не помнил совсем, разве что тщедушной крошкой, всегда молчавшей, с большими настороженными глазами. Взгляды обеих устремлены вверх на него. Обе находились в каком-то углублении: то ли на дне колодца, а может, и очень глубокой могилы – и опускались все глубже. Вот уже они в кают-компании тонущего корабля, смотрят вверх на него сквозь темную толщу воды. В каюте еще есть воздух, им еще видно его, а ему их, но они неудержимо все глубже и глубже тонут в зеленых водах, еще миг – и те поглотят их навсегда. Уинстон на свету и свежем воздухе, а их засасывает темная смерть, и они там, в пучине, потому что он тут, наверху. Он понимает: они об этом знают, знание этого он читает на их лицах. Но ни на их лицах, ни в их сердцах нет никакого укора, лишь осознание: они должны умереть, чтобы он мог остаться в живых, ибо таков неизбежный порядок вещей.
Что именно случилось, он не помнил. Зато во сне понимал: так или иначе, но жизни мамы и сестры были принесены в жертву ради его собственной. Такие сны, обставленные всякий раз одинаково, словно продолжают твою интеллектуальную жизнь: на фоне вымышленного пейзажа разворачиваются события духовной жизни и приходят откровения, которые кажутся значимыми и после пробуждения. Уинстона поразило, что смерть матери, случившаяся почти тридцать лет назад, трагична и печальна в смысле, который уже утрачен. Трагедия осталась в прошлом, в том времени, когда еще существовало право человека на личную жизнь, на любовь и дружбу, когда родные поддерживали друг друга в трудную минуту, не задаваясь лишними вопросами. Память о матери рвала ему сердце, потому как она гибла, любя его, хотя сам Уинстон был слишком мал и эгоистичен, чтобы любить в ответ. Мама отдала свою жизнь бескорыстно, исходя из высокой и неизменной идеи преданности. Ныне, он понимал, такое невозможно. Ныне существуют страх, ненависть и боль, но нет ни благородства чувств, ни глубокой и стойкой скорби. Все это Уинстон, похоже, прочел в огромных глазах матери и сестры, когда те смотрели на него из глубины в сотни морских саженей и погружались в зеленую воду.
И вот он уже на маленькой пружинящей лужайке, стоит под летним закатным солнцем, чьи косые лучи золотили все вокруг. Этот пейзаж снился ему часто, и Уинстон уже не знал, видел ли он его в реальном мире или только во сне. Пробуждаясь, он мысленно называл это Золотой страной. Старый выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Неподалеку струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.
Через поле к нему шла темноволосая девушка. Она стремительно сорвала с себя одежду и небрежно отшвырнула в сторону. Тело у нее было белое и гладкое, оно не вызвало в нем ни малейшего желания, на тело Уинстон едва взглянул. Поразило именно движение руки, каким девушка отбросила одежду. Казалось, сквозившие в нем грация и беззаботность смели с лица земли целую культуру, целую систему взглядов – одним бесподобным жестом отправлены в небытие и Большой Брат, и Партия, и полиция помыслов. Жест явно принадлежал прошлым эпохам. Уинстон проснулся с именем Шекспира на губах.
Телеэкран разразился пронзительным свистом, продолжавшимся на одной ноте тридцать секунд. Семь пятнадцать, пора вставать конторским служащим. Уинстон выбрался из кровати (голый, потому что Массам Партии полагалось в год всего 3000 купонов на одежду, а пижама стоила 600) и схватил со стула заношенную майку и трусы. Физзарядка начнется через три минуты. И вдруг он согнулся пополам в приступе кашля, всегда нападавшего на него после подъема. В легких не осталось ни глотка воздуха, и, чтобы продышаться, пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. От натуги вздулись вены, язва на ноге зудела с новой силой.
– Группа от тридцати до сорока! – пронзительно выкрикнул женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Встали по местам. От тридцати до сорока!
Уинстон вытянулся по стойке смирно перед телеэкраном, на котором уже появилась моложавая женщина, сухощавая, но мускулистая, в гимнастерке и спортивных тапках.
– Руки согнули и потянулись! – командовала она. – Повторяйте за мной! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! Ну же, товарищи, больше жизни! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!..
Боль от приступа кашля не вполне вырвала Уинстона из недавнего сна, а ритмичные движения зарядки даже помогали вернуться в него снова. Машинально размахивая руками с выражением сосредоточенной радости на лице, которую полагалось выказывать во время физзарядки, он погружался в смутные воспоминания раннего детства. Давалось это с огромным трудом. До конца пятидесятых все виделось словно в тумане. Когда памяти не за что ухватиться вовне, то даже события собственного прошлого теряют четкость. Помнишь крупные события, которых могло и не быть, помнишь мелкие подробности, но не можешь воссоздать фон, на каком они происходили, к тому же полно долгих пустых промежутков, о которых не известно ничего. Тогда все было иным, изменились даже названия стран и их очертания на карте. К примеру, Авиабаза-1 прежде называлась Англия или Британия, хотя Уинстон был вполне убежден, что Лондон названия не менял.
Уинстон не помнил, чтобы страна ни с кем не воевала, хотя наверняка на его детство пришелся довольно длинный промежуток мирного времени, поскольку одно из самых ранних воспоминаний – воздушный налет, застигший всех врасплох. Наверное, это случилось, когда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет память Уинстона не сохранила, зато он помнил, как отец крепко держит его за руку и они спешат вниз, вниз, вниз под землю, спускаясь по спиральной лестнице, и та гудит под ногами. Он расхныкался от усталости, и им пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Мама брела в своей привычной, задумчивой манере и довольно сильно отстала. Она несла его сестренку или просто узел с одеялами: Уинстон не помнил, родилась ли тогда сестра или еще нет. Наконец они вошли в шумное, забитое людьми помещение – на станцию метро, как он теперь догадывался.
Люди сидели по всей выложенной каменной плиткой платформе, другие теснились друг над другом на двухъярусных железных койках. Уинстон, мама и отец отыскали себе место на полу, рядом с ними на койке сидела пожилая пара. Старик был в добротном темном костюме и черном кепи на совершенно седых волосах, лицо красное, голубые глаза полны слез. От него так сильно несло джином, словно тот сочился у него из пор вместо пота и слезами катился по щекам. Выпивший явно страдал от невыносимого горя. Уинстон по-детски рассудил, что случилось нечто ужасное, такое, чего нельзя простить и нельзя исправить. Ему казалось, он знает, в чем дело. У старика убили близкого человека, маленькую внучку, к примеру. Время от времени тот повторял: «Зря мы им поверили. Говорил же тебе, ма! Вот чем это заканчивается… Ведь говорил же! Не надо было доверять этим шельмам». Каким именно шельмам не следовало доверять, Уинстон вспомнить уже не мог.
Примерно с тех пор война шла практически непрерывно, точнее, войны следовали одна за другой. Несколько месяцев на улицах Лондона велись беспорядочные бои, некоторые Уинстон отчетливо запомнил. Впрочем, проследить историю тех событий, сказать наверняка, кто, с кем и когда сражался, совершенно невозможно, ведь не осталось ни письменных свидетельств, ни устных, которые отличались бы от официальной линии. К примеру, сейчас, в 1984 году (если он действительно 1984-й), Океания вела войну против Евразии и держала союз с Востазией. Ни публично, ни в частной беседе и речи не шло, что расстановка сил когда-либо менялась. На самом деле Уинстон отлично знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Востазией и союзничала с Евразией, но владел этим знанием украдкой, да и то лишь потому, что не держал, как следовало, память под контролем. Официально смена противников и союзников никогда не признавалась. Океания воюет с Евразией, стало быть, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг воплощает абсолютное зло, следовательно, любые прошлые или будущие договоренности с ним исключены.
Ужас в том, думал он в десятитысячный раз, с натугой двигая плечами («руки на поясе, совершаем круговые движения корпусом, отлично растягивает мышцы спины»), ужас в том, что все это может оказаться правдой. Ведь, если Партия способна наложить свои лапы на прошлое и заявить, что того или иного события не было вовсе, такое наверняка ужаснее любых пыток и смерти?
Партия утверждает, что Океания никогда не заключала союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что всего четыре года назад Океания состояла в альянсе с Евразией. И где же это знание? Лишь в его сознании, которое в любом случае вскоре будет уничтожено. Если остальные приняли навязанную Партией ложь, если все документы свидетельствуют об одном и том же, значит, ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, – гласит лозунг Партии, – контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». И все же прошлое, хотя по природе своей изменчиво, не менялось никогда. То, что правда сейчас, было правдой во веки веков. Все очень просто. Нужно лишь непрерывно одерживать победы над своей памятью. «Контролем над реальностью» называлось это: «двоемыслие» на новослове.
– Вольно! – гаркнула телеинструктор чуть добродушнее.
Уинстон опустил руки по швам и медленно наполнил легкие воздухом. Его мысли скользнули в лабиринты двоемыслия. Знать и не знать, сознавать истинное положение вещей и одновременно говорить тщательно продуманную ложь, придерживаться двух противоположных мнений и верить, что истинны оба, использовать логику против логики, отвергать мораль, претендуя на нее, верить, что демократия невозможна и что Партия – столп демократии, забывать все, что необходимо забыть, затем извлекать по приказу и снова послушно забывать, и главное, применять эту процедуру к самой процедуре. Вот в чем основная тонкость: сознательно лишаться сознательности, а потом вновь, еще раз утрачивать осознание акта самогипноза, тобою же только что проделанного. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо прибегнуть к двоемыслию.
И вот уже оба ребенка заскакали вокруг Уинстона с воплями «Предатель!» и «Помыслокриминал!», причем девочка повторяла каждое движение брата. Зрелище слегка пугало, как игра зверенышей, из которых вырастут тигры-людоеды. Во взгляде мальчугана читались расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть соседа и осознание того, что совсем скоро такое будет ему по силам. Хорошо хоть пистолет ненастоящий, подумал Уинстон.
Взгляд миссис Парсонс заметался от гостя к детям и обратно. Освещение в гостиной было ярче, и Уинстон с интересом отметил, что в складки ее лица и в самом деле набилась пыль.
– Вот ведь расшумелись, – пробормотала женщина. – Расстроились, что на казнь не попали. У меня дел полно, Том на работе.
– Почему мы не пошли на казнь?! – проревел мальчик во все горло.
– Хочу смотреть на казнь! Хочу смотреть на казнь! – скандировала его сестрица, пританцовывая.
Уинстон вспомнил, что вечером в парке намечено вешать евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Массовое зрелище происходило примерно раз в месяц, и дети всегда шумно требовали, чтобы их взяли посмотреть. Уинстон, попрощавшись с миссис Парсонс, пошел к двери. Не успел он пройти по коридору и шести шагов, как шею обожгло болью, в нее словно воткнули раскаленный провод. Уинстон резко обернулся: миссис Парсонс затаскивала в квартиру сына, сующего в карман рогатку.
– Гольдштейн! – рычал ребенок, исчезая за дверью. Больше всего Уинстона впечатлило выражение беспомощности на посеревшем лице женщины.
В своей квартире он торопливо шмыгнул мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка прекратилась. Отрывистый военный голос со свирепым наслаждением перечислял вооружение новой Плавучей крепости, вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.
С такими детьми, подумал Уинстон, жизнь несчастной женщины – сплошной ужас. Годик-другой, и они примутся шпионить за ней день и ночь, надеясь подловить на инакомыслии. Сейчас почти все дети такие. Самое страшное, что организации вроде Разведчиков целенаправленно превращают детей в неуправляемых зверят. Как ни странно, желания бунтовать против Партии у них не возникает. Наоборот, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, транспаранты, ходьба строем, тренировки с муляжами винтовок, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – для них это упоительная игра. Вся детская ярость направлена вовне: против врагов державы, против иностранцев, предателей, диверсантов, помыслокриминалов. Бояться собственных детей стало почти обыденностью для родителей, кому слегка за тридцать. Недаром и недели не проходит без того, чтобы «Таймс» не сообщила об очередных мелких пронырах (официально таких называют «маленькими героями»), подслушавших взрослый разговор и сдавших родителей полиции помыслов.
Жжение в шее прошло. Уинстон нерешительно взялся за перо, гадая, удастся ли записать в дневник еще что-нибудь. Внезапно ему снова вспомнился О’Брайен.
Давным-давно, лет семь назад, Уинстону приснилось, что он бредет в кромешной темноте. И вдруг голос сбоку тихо произнес: «Мы встретимся там, где нет темноты». Прозвучала фраза как бы между прочим. Он прошел не останавливаясь. Любопытно, что во сне слова не произвели на него особого впечатления. В полной мере Уинстон проникся ими не сразу, а гораздо позже. Он не помнил, когда впервые увидел О’Брайена, до или после того сна, не помнил, когда впервые осознал, что голос из сна принадлежит О’Брайену. Так или иначе, одно Уинстон знал наверняка: из темноты с ним заговорил именно О’Брайен.
Даже после сегодняшнего обмена взглядами Уинстону так и не удалось разобраться, друг О’Брайен или враг. Впрочем, какая разница? Между ними возникло понимание. Такие узы связывают гораздо крепче, чем узы любви или дружбы. «Мы встретимся там, где нет темноты», – пообещал тот. Уинстон не понимал, что это значит, лишь чувствовал, что так или иначе это сбудется.
Телеэкран умолк. В спертом воздухе раздался чистый, красивый звук военного горна. Голос отрывисто продолжил:
– Внимание! Внимание! Экстренное сообщение с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали важную победу. Я уполномочен объявить, что сегодняшние события могут значительно приблизить окончание войны. Смотрите сводку…
Грядут плохие новости, подумал Уинстон. И точно: следом за кровавыми подробностями уничтожения евразийской армии, после перечисления количества убитых и взятых в плен объявили, что со следующей недели норма шоколада на душу населения сократится с тридцати граммов до двадцати.
Уинстон снова рыгнул. Джин выветривался, после него оставалось ощущение опустошенности. Телеэкран разразился бравурными звуками гимна «Океания, все для тебя», то ли отпраздновать победу над Евразией, то ли заглушить боль от утраты шоколада. Гимн полагалось слушать по стойке смирно, но Уинстон воспользовался тем, что за столом его не видно.
«Океания, все для тебя» сменилась музыкой полегче. Уинстон подошел к окну, держась к телеэкрану спиной. Погода все такая же холодная и ясная. Вдалеке глухо, раскатисто проревело, взорвалась авиабомба. Каждую неделю таких на Лондон сбрасывали около двадцати или тридцати.
На улице ветер судорожно трепал рваный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Заветные принципы ангсоца. Новослов, двоемыслие, непостоянство прошлого. Уинстон словно бродил по подводному лесу на дне океана, заблудившись в мире чудищ, где ты и сам чудище. Он один. Прошлое мертво, будущее вообразить нельзя. Разве можно рассчитывать, что обретешь хотя бы одного сторонника? Как узнать, что владычество Партии не будет длиться вечно? Как ответ всплыли в памяти три лозунга на белой стене министерства правды:
ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА
Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней мелким шрифтом выбиты те же лозунги, на обороте – голова Большого Брата. Глаза следят за тобой даже с монет, с марок, с обложек книг, с растяжек поперек улиц, с плакатов, с папиросных пачек – отовсюду. Глаза следят, голос обволакивает. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или отдыхаешь, моешься в ванне или лежишь в постели – от них не укрыться. У тебя нет ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри собственного черепа.
Солнце ушло, бесчисленные окна министерства правды погасли и стали похожи на мрачные бойницы крепости. При виде огромадной пирамиды Уинстон совсем пал духом. Слишком крепка: приступом не возьмешь. Такую и тысячей ракетных боеголовок не сшибешь. Уинстон снова задумался, ради чего взялся за дневник. Ради будущего, ради прошлого – ради времени, которое, может, лишь грезится. Перед ним же маячила не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, его самого – в испарение. Лишь полиция помыслов прочтет им написанное, прежде чем изъять это из бытия и из памяти. Как взывать к будущему, если от тебя не останется ни следа, ни даже невесть кем написанного словца на клочке бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать. Еще десять минут, и надо выходить: обеденный перерыв заканчивался через полчаса.
Как ни странно, бой часов подкрепил его дух. Уинстон был одиноким призраком, шепчущим правду, которую никому не услышать. Только пока он ее шепчет, каким-то неясным образом связь времен не рвется. Наследие человечества несет не тот, кого слышат, а тот, кто сохраняет рассудок. Он вернулся к столу, макнул перо в чернильницу и записал:
Из эпохи уравниловки, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата, из эпохи двоемыслия приветствую будущее или прошлое, времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются один от другого и не живут поодиночке, времена, где существует правда и сделанное нельзя переиначить!
Он уже мертвец, подумал Уинстон. Показалось, что только теперь, взявшись и обретя способность выражать мысли на бумаге, он и предпринял решающий шаг. Последствия любого поступка в самом же поступке и содержатся. Он вывел:
Помыслокриминал не влечет за собой смерть: он и есть смерть.
Теперь, осознав себя мертвецом, Уинстон понял, как важно оставаться в живых как можно дольше. Пальцы правой руки запачкались в чернилах. Именно такая деталь и может выдать. Какой-нибудь пронырливый товарищ в министерстве (скорее всего, женщина – вроде той тощей блондинки или девицы из департамента беллетристики) начнет интересоваться, почему ты работал во время обеденного перерыва, почему воспользовался старомодным пером, что именно писал, и сообщит куда следует. Уинстон пошел в ванную и тщательно смыл чернила шершавым, как наждак, темно-коричневым мылом: для этой цели оно годилось прекрасно.
Дневник он убрал в ящик стола. Прятать не имеет смысла, зато по крайней мере можно проверить, обнаружили его или нет. Волосок поперек уголка сразу бросится в глаза. Подцепив ногтем едва заметную крупинку белесой пыли, Уинстон перенес ее на угол обложки: если книгу подвинуть, непременно слетит.
III
Уинстону снилась мама.
Когда она исчезла, ему было, если подсчитать, лет десять-одиннадцать. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавной грацией и великолепными светлыми волосами. Отец помнился более смутно: смуглый, худой, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону почему-то особенно запали в память его туфли на тонкой подошве) и в очках. Оба, очевидно, сгинули еще в одной из первых великих чисток пятидесятых годов.
А сейчас мама сидела где-то далеко внизу с его младшей сестренкой на руках. Сестру он не помнил совсем, разве что тщедушной крошкой, всегда молчавшей, с большими настороженными глазами. Взгляды обеих устремлены вверх на него. Обе находились в каком-то углублении: то ли на дне колодца, а может, и очень глубокой могилы – и опускались все глубже. Вот уже они в кают-компании тонущего корабля, смотрят вверх на него сквозь темную толщу воды. В каюте еще есть воздух, им еще видно его, а ему их, но они неудержимо все глубже и глубже тонут в зеленых водах, еще миг – и те поглотят их навсегда. Уинстон на свету и свежем воздухе, а их засасывает темная смерть, и они там, в пучине, потому что он тут, наверху. Он понимает: они об этом знают, знание этого он читает на их лицах. Но ни на их лицах, ни в их сердцах нет никакого укора, лишь осознание: они должны умереть, чтобы он мог остаться в живых, ибо таков неизбежный порядок вещей.
Что именно случилось, он не помнил. Зато во сне понимал: так или иначе, но жизни мамы и сестры были принесены в жертву ради его собственной. Такие сны, обставленные всякий раз одинаково, словно продолжают твою интеллектуальную жизнь: на фоне вымышленного пейзажа разворачиваются события духовной жизни и приходят откровения, которые кажутся значимыми и после пробуждения. Уинстона поразило, что смерть матери, случившаяся почти тридцать лет назад, трагична и печальна в смысле, который уже утрачен. Трагедия осталась в прошлом, в том времени, когда еще существовало право человека на личную жизнь, на любовь и дружбу, когда родные поддерживали друг друга в трудную минуту, не задаваясь лишними вопросами. Память о матери рвала ему сердце, потому как она гибла, любя его, хотя сам Уинстон был слишком мал и эгоистичен, чтобы любить в ответ. Мама отдала свою жизнь бескорыстно, исходя из высокой и неизменной идеи преданности. Ныне, он понимал, такое невозможно. Ныне существуют страх, ненависть и боль, но нет ни благородства чувств, ни глубокой и стойкой скорби. Все это Уинстон, похоже, прочел в огромных глазах матери и сестры, когда те смотрели на него из глубины в сотни морских саженей и погружались в зеленую воду.
И вот он уже на маленькой пружинящей лужайке, стоит под летним закатным солнцем, чьи косые лучи золотили все вокруг. Этот пейзаж снился ему часто, и Уинстон уже не знал, видел ли он его в реальном мире или только во сне. Пробуждаясь, он мысленно называл это Золотой страной. Старый выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Неподалеку струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.
Через поле к нему шла темноволосая девушка. Она стремительно сорвала с себя одежду и небрежно отшвырнула в сторону. Тело у нее было белое и гладкое, оно не вызвало в нем ни малейшего желания, на тело Уинстон едва взглянул. Поразило именно движение руки, каким девушка отбросила одежду. Казалось, сквозившие в нем грация и беззаботность смели с лица земли целую культуру, целую систему взглядов – одним бесподобным жестом отправлены в небытие и Большой Брат, и Партия, и полиция помыслов. Жест явно принадлежал прошлым эпохам. Уинстон проснулся с именем Шекспира на губах.
Телеэкран разразился пронзительным свистом, продолжавшимся на одной ноте тридцать секунд. Семь пятнадцать, пора вставать конторским служащим. Уинстон выбрался из кровати (голый, потому что Массам Партии полагалось в год всего 3000 купонов на одежду, а пижама стоила 600) и схватил со стула заношенную майку и трусы. Физзарядка начнется через три минуты. И вдруг он согнулся пополам в приступе кашля, всегда нападавшего на него после подъема. В легких не осталось ни глотка воздуха, и, чтобы продышаться, пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. От натуги вздулись вены, язва на ноге зудела с новой силой.
– Группа от тридцати до сорока! – пронзительно выкрикнул женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Встали по местам. От тридцати до сорока!
Уинстон вытянулся по стойке смирно перед телеэкраном, на котором уже появилась моложавая женщина, сухощавая, но мускулистая, в гимнастерке и спортивных тапках.
– Руки согнули и потянулись! – командовала она. – Повторяйте за мной! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! Ну же, товарищи, больше жизни! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!..
Боль от приступа кашля не вполне вырвала Уинстона из недавнего сна, а ритмичные движения зарядки даже помогали вернуться в него снова. Машинально размахивая руками с выражением сосредоточенной радости на лице, которую полагалось выказывать во время физзарядки, он погружался в смутные воспоминания раннего детства. Давалось это с огромным трудом. До конца пятидесятых все виделось словно в тумане. Когда памяти не за что ухватиться вовне, то даже события собственного прошлого теряют четкость. Помнишь крупные события, которых могло и не быть, помнишь мелкие подробности, но не можешь воссоздать фон, на каком они происходили, к тому же полно долгих пустых промежутков, о которых не известно ничего. Тогда все было иным, изменились даже названия стран и их очертания на карте. К примеру, Авиабаза-1 прежде называлась Англия или Британия, хотя Уинстон был вполне убежден, что Лондон названия не менял.
Уинстон не помнил, чтобы страна ни с кем не воевала, хотя наверняка на его детство пришелся довольно длинный промежуток мирного времени, поскольку одно из самых ранних воспоминаний – воздушный налет, застигший всех врасплох. Наверное, это случилось, когда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет память Уинстона не сохранила, зато он помнил, как отец крепко держит его за руку и они спешат вниз, вниз, вниз под землю, спускаясь по спиральной лестнице, и та гудит под ногами. Он расхныкался от усталости, и им пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Мама брела в своей привычной, задумчивой манере и довольно сильно отстала. Она несла его сестренку или просто узел с одеялами: Уинстон не помнил, родилась ли тогда сестра или еще нет. Наконец они вошли в шумное, забитое людьми помещение – на станцию метро, как он теперь догадывался.
Люди сидели по всей выложенной каменной плиткой платформе, другие теснились друг над другом на двухъярусных железных койках. Уинстон, мама и отец отыскали себе место на полу, рядом с ними на койке сидела пожилая пара. Старик был в добротном темном костюме и черном кепи на совершенно седых волосах, лицо красное, голубые глаза полны слез. От него так сильно несло джином, словно тот сочился у него из пор вместо пота и слезами катился по щекам. Выпивший явно страдал от невыносимого горя. Уинстон по-детски рассудил, что случилось нечто ужасное, такое, чего нельзя простить и нельзя исправить. Ему казалось, он знает, в чем дело. У старика убили близкого человека, маленькую внучку, к примеру. Время от времени тот повторял: «Зря мы им поверили. Говорил же тебе, ма! Вот чем это заканчивается… Ведь говорил же! Не надо было доверять этим шельмам». Каким именно шельмам не следовало доверять, Уинстон вспомнить уже не мог.
Примерно с тех пор война шла практически непрерывно, точнее, войны следовали одна за другой. Несколько месяцев на улицах Лондона велись беспорядочные бои, некоторые Уинстон отчетливо запомнил. Впрочем, проследить историю тех событий, сказать наверняка, кто, с кем и когда сражался, совершенно невозможно, ведь не осталось ни письменных свидетельств, ни устных, которые отличались бы от официальной линии. К примеру, сейчас, в 1984 году (если он действительно 1984-й), Океания вела войну против Евразии и держала союз с Востазией. Ни публично, ни в частной беседе и речи не шло, что расстановка сил когда-либо менялась. На самом деле Уинстон отлично знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Востазией и союзничала с Евразией, но владел этим знанием украдкой, да и то лишь потому, что не держал, как следовало, память под контролем. Официально смена противников и союзников никогда не признавалась. Океания воюет с Евразией, стало быть, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг воплощает абсолютное зло, следовательно, любые прошлые или будущие договоренности с ним исключены.
Ужас в том, думал он в десятитысячный раз, с натугой двигая плечами («руки на поясе, совершаем круговые движения корпусом, отлично растягивает мышцы спины»), ужас в том, что все это может оказаться правдой. Ведь, если Партия способна наложить свои лапы на прошлое и заявить, что того или иного события не было вовсе, такое наверняка ужаснее любых пыток и смерти?
Партия утверждает, что Океания никогда не заключала союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что всего четыре года назад Океания состояла в альянсе с Евразией. И где же это знание? Лишь в его сознании, которое в любом случае вскоре будет уничтожено. Если остальные приняли навязанную Партией ложь, если все документы свидетельствуют об одном и том же, значит, ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, – гласит лозунг Партии, – контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». И все же прошлое, хотя по природе своей изменчиво, не менялось никогда. То, что правда сейчас, было правдой во веки веков. Все очень просто. Нужно лишь непрерывно одерживать победы над своей памятью. «Контролем над реальностью» называлось это: «двоемыслие» на новослове.
– Вольно! – гаркнула телеинструктор чуть добродушнее.
Уинстон опустил руки по швам и медленно наполнил легкие воздухом. Его мысли скользнули в лабиринты двоемыслия. Знать и не знать, сознавать истинное положение вещей и одновременно говорить тщательно продуманную ложь, придерживаться двух противоположных мнений и верить, что истинны оба, использовать логику против логики, отвергать мораль, претендуя на нее, верить, что демократия невозможна и что Партия – столп демократии, забывать все, что необходимо забыть, затем извлекать по приказу и снова послушно забывать, и главное, применять эту процедуру к самой процедуре. Вот в чем основная тонкость: сознательно лишаться сознательности, а потом вновь, еще раз утрачивать осознание акта самогипноза, тобою же только что проделанного. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо прибегнуть к двоемыслию.