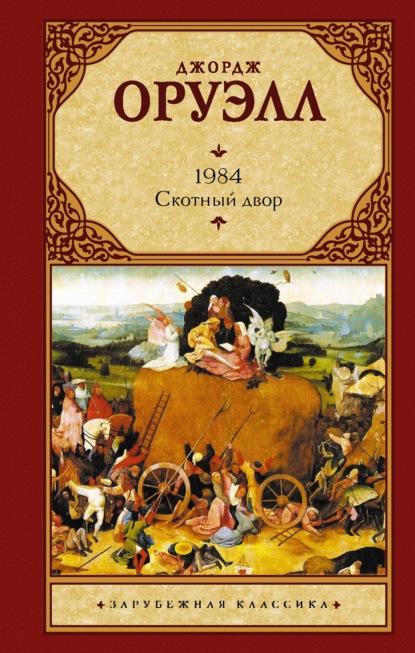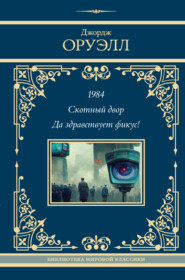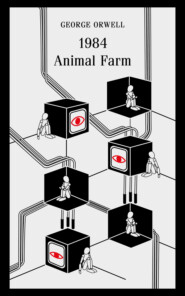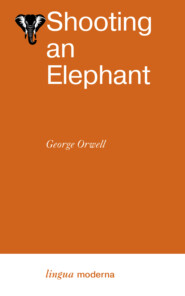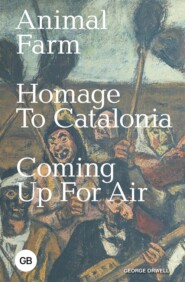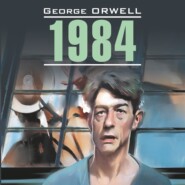По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1984. Скотный двор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Разумеется, это не сильно его удивило. Даже тогда Уинстону слабо верилось, что жертвы массовых чисток действительно совершили все те преступления, в которых их обвиняли. Теперь же в руки ему попало железобетонное доказательство, фрагмент утраченного прошлого: так кость ископаемого животного, найденная не в том слое, рушит стройную геологическую теорию. Если бы удалось придать это огласке и разъяснить людям, почему это так важно, – хватило бы, чтоб распылить Партию на атомы.
Уинстон поспешно приступил к работе. Разглядев снимок и осознав его значение, он быстро положил сверху лист бумаги. По счастью, когда Уинстон разворачивал газетную вырезку, та виделась с телеэкрана задом наперед. Он отодвинул стул подальше от телеэкрана. Сохранять невозмутимое лицо несложно, при должном усилии дыхание тоже удается контролировать, другое дело – унять сердцебиение, ведь телеэкран вполне способен его уловить. Уинстон выждал минут десять, изнывая от страха перед непредвиденным: вдруг по столу пробежит сквозняк и выдаст его? Затем, прихватив верхний лист вместе с фотографией, швырнул бумажный мусор в дыру памяти. И через минуту газетная фотография обратилась в пепел.
Произошло это лет десять-одиннадцать назад. Сегодня Уинстон фотографию сохранил бы. Странно, но пусть от фото и от самого события осталось только воспоминание, для него очень важно, что ему удалось подержать газетную вырезку в руках. Интересно, может ли власть Партии над прошлым ослабеть из-за доказательства, которого больше не существует?
Впрочем, даже если бы фото удалось возродить из пепла, сегодня оно вряд ли что-то докажет. Когда Уинстон его обнаружил, Океания уже не воевала с Евразией, значит, трое мертвецов продали свою страну агентам Востазии. С тех пор враг менялся два-три раза, если не больше. Признания наверняка переписывали снова и снова, пока первоначальные факты и даты не утратили всякое значение. Прошлое не просто менялось, оно не переставало меняться. Самое кошмарное заключалось в том, что Уинстон не понимал, к чему так утруждаться. Прямые преимущества фальсификации прошлого были очевидны, однако конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял перо и написал:
Я понимаю КАК. Понять не могу ЗАЧЕМ.
Уинстон в очередной раз задался вопросом, не сошел ли с ума он сам. Наверное, быть в меньшинстве и есть сумасшествие. Когда-то считалось безумием верить, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня – что прошлое неизменно. Возможно, в это верит лишь он, а если ты один, то сумасшедший. Впрочем, пугает другое: вдруг он тоже ошибается?
Уинстон взял школьный учебник по истории с портретом Большого Брата на обложке. Гипнотический взгляд вонзался прямо в душу. Чудовищная сила проникала в череп, била по мозгам, запугивала, заставляла отказаться от своих убеждений, внушала не верить собственным глазам. В итоге Партия объявит, что дважды два пять, – и придется в это поверить. Рано или поздно они так и сделают: логика положения их просто обязывает. Генеральная линия Партии негласно отрицает не только достоверность восприятия, но и существование объективной реальности. Откровенная чушь – здравый смысл. Самое ужасное не в том, что тебя убьют за инакомыслие, а в том, что они могут быть правы. Если уж на то пошло, откуда известно, что дважды два четыре? Или что гравитация действует? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и объективная реальность существуют лишь в сознании, а сознание можно контролировать, что тогда?
Нет уж! Внезапно к Уинстону вернулось мужество. В сознании возникло лицо О’Брайена, просто так, без видимых причин. Теперь он точно знал, что О’Брайен на его стороне. Он ведет дневник для О’Брайена и обращается к О’Брайену. Словно пишет бесконечное письмо, которое никто не прочтет, зато конкретность адресата придает писанине красок.
Партия велит не верить своим глазам и ушам. Это и есть ее окончательный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало при мысли, какой колоссальной силе он противостоит, с какой легкостью отметет его доводы любой партийный деятель, какими изощренными аргументами закидает… их не то что опровергнуть, понять-то невозможно… И все же ошибаются они, а он прав! Очевидное, простое, истинное нужно защищать. Прописные истины не лгут, их и надо держаться! Незыблемый мир существует, законы его неизменны. Камни – твердые, вода – мокрая, подброшенный предмет падает вниз. Чувствуя, что обращается к О’Брайену и вместе с тем выдвигает важную аксиому, он вывел:
Свобода – это свобода заявить, что два плюс два равно четырем. Если это обеспечено, все остальное приложится.
VIII
Из глубины боковой улочки донесся аромат жареного кофе, настоящего, не «Победы». Уинстон невольно замер. На пару секунд он перенесся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь, и запах исчез.
Он прошел по улицам несколько километров, и язва на ноге разболелась. Уже второй раз за три недели он пропустил вечер во Дворце культуры: опрометчивый поступок, учитывая, что количество посещений тщательно проверяют. По идее, свободного времени у членов Партии нет вовсе, а в одиночестве они остаются лишь в своей постели. Предполагается, что, когда ты не работаешь, не ешь и не спишь, то принимаешь участие в коллективных мероприятиях, поэтому заниматься чем-то в одиночку, хотя бы просто гулять по улицам, опасно. В новослове даже существует такой термин: «самобыт», означающий индивидуализм и чудачество. Но благоуханный апрельский воздух заставил Уинстона забыть об осторожности. Небо голубело так нежно, что, выйдя из министерства, он понял: очередного длинного, шумного вечера в ДК, где ждут его скучные настольные игры, лекции, натужное общение с товарищами по Партии, щедро сдобренное джином, он просто не вынесет. Повинуясь внезапному порыву, Уинстон свернул в противоположную автобусной остановке сторону и побрел по лабиринту улочек Лондона куда глаза глядят: сначала на юг, потом на восток, затем на север.
«Если и есть надежда, – написал он в дневнике, – то она заключается в пролах». Фраза продолжала его преследовать: мистическая истина и явная нелепость. Уинстон очутился в глухих, бурых трущобах к северо-востоку от места, где раньше был вокзал Сент-Панкрас. Он шел по мощеной улице с двухэтажными домишками, чьи обветшалые подъезды выходили прямо на тротуар и сильно смахивали на крысиные норы. Среди брусчатки виднелись грязные лужи. И в темных проемах, и в тесных проходах между домами сновали целые толпы: девушки в самом соку с ярко накрашенными губами, и бегающие за ними парни, и ходящие вразвалочку обрюзгшие тетки, глядя на которых понимаешь, во что превратятся эти девушки лет через десять, и шмыгающие подошвами согбенные старухи, и босые детишки-оборванцы, что играют в лужах и разбегаются от сердитых окриков матерей. Около четверти окон на улице были разбиты и заколочены досками. Большинство пролов не обращали на Уинстона внимания, лишь некоторые поглядывали с настороженным любопытством. В дверях стояли и, сложив на фартуках кирпично-красные ручищи, беседовали две пугающе громадные бабы. Подходя, Уинстон расслышал обрывок разговора.
– Так-то оно так, говорю я ей, только на моем месте, говорю, ты бы сделала то же самое. Судить-рядить-то всяк горазд, а тебе б мои проблемы!
– Ну да, – кивнула вторая, – так и есть. Куда уж ей понять!
Громкие голоса резко оборвались. Женщины проводили Уинстона враждебным молчанием. Впрочем, вряд ли враждебным, опасливым, с каким оглядывают проходящего рядом незнакомого зверя. Едва ли синий комбинезон партийца видят на подобных улицах часто. На самом деле заявляться в кварталы пролов по собственной инициативе неразумно. Нарвешься на патруль, придется отвечать на вопросы. «Будьте добры предъявить свои документы, товарищ. Что вы здесь делаете? Когда вышли с работы? Вы всегда идете домой этой дорогой?» – и так далее, и тому подобное. Ходить по непривычному маршруту не возбраняется, но полицию помыслов это точно насторожит.
Внезапно улица пришла в смятение. Со всех сторон раздались крики предостережения. Люди ныряли в дверные проемы, словно кролики. Чуть впереди Уинстона молодая мать выскочила из дома, выхватила из лужи малыша, обернула передником и тут же шмыгнула обратно. Из боковой улочки выбежал человек в мятом, будто жеваном, костюме и кинулся к Уинстону, встревоженно тыча в небо.
– Паровик! – заорал он. – Хоронись, начальник! Бабах сверху! Ложись!
Паровиками пролы почему-то называли ракетные боеголовки. Уинстон поспешно упал ничком. Пролы в таких делах редко ошибаются. У них какое-то особое чутье, которое срабатывает за несколько секунд до удара, хотя ракеты летят быстрее звука. Уинстон накрыл голову руками. От взрыва содрогнулся тротуар, на спину дождем посыпался легкий мусор. Поднявшись, он обнаружил на одежде осколки ближайшего окна.
Уинстон пошел дальше. Ракета разворотила несколько домов метрах в двухстах впереди. В небе висел столб черного дыма, в клубах пыли возле развалин собиралась толпа. Тротуар завалила куча штукатурки с ярко-красным пятном посередине. Подойдя ближе, Уинстон разглядел на куче оторванную человеческую кисть. Если не считать окровавленного среза, побелевшая рука выглядела словно гипсовый слепок. Отшвырнув обрубок ногой в канаву, Уинстон свернул направо, чтобы разминуться с толпой.
Через три-четыре минуты он вышел из района падения ракеты, за пределами которого убогая жизнь трущоб кишела как ни в чем не бывало. Время приближалось к двадцати часам, и питейные заведения для пролов (те называли их пабами) ломились от посетителей. Грязные двухстворчатые двери беспрестанно открывались и закрывались, изнутри несло мочой, древесными опилками и кислым пивом. В углу возле выступающей стены сгрудились три прола: тот, что в центре, держал сложенную газету, а двое других заглядывали ему через плечо. Издалека лиц не разобрать, зато позы выражали полную сосредоточенность. Казалось, пролы обсуждали какую-то очень важную новость. Когда Уинстону оставалось до них несколько шагов, троица внезапно разделилась, и двое принялись яростно спорить, того и гляди пустят в ход кулаки.
– Совсем оглох? Говорю же, за четырнадцать месяцев ни один номер с семеркой на конце не выигрывал!
– А вот и нет!
– А вот и да! Дома у меня есть бумажка с номерами за два года! Говорю же, ни один номер с семеркой…
– Семерка выигрывала! Я тот чертов номер помню почти наизусть! Заканчивается на четыре-ноль-семь. В феврале то было, вторая неделя февраля.
– Да иди ты со своим февралем знаешь куда! У меня все черным по белому записано. Говорю же, ни один номер…
– Заглохли! – прикрикнул третий.
Обсуждалась Лотерея. Пройдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Пролы все еще увлеченно спорили. Похоже, еженедельная Лотерея с ее огромными выигрышами была единственным общественным событием, живо интересовавшим пролов. Миллионы их только ею и живут: для кого услада, для кого страсть, для кого средство от всех скорбей и болезней. Даже те, кто едва способен читать и писать, блистают сложнейшими расчетами и феноменальной памятью во всем, что касается Лотереи. Продажами всевозможных систем, прогнозов и талисманов промышляет целая группировка. Уинстон не имел к Лотерее никакого отношения: ею занималось министерство благополучия – просто ему было известно (на деле про то осведомлены были все в Партии), что выигрыши по большей части мнимые. Выплачиваются только мизерные суммы, а обладатели крупных призов – лица вымышленные. В отсутствие сообщения между разными частями Океании устроить это нетрудно.
Но если и есть надежда, то она в пролах. Этой истины и будем придерживаться. Облеченная в слова, она звучит вполне разумно, когда видишь людей, спешащих мимо по тротуару, она становится испытанием веры. Улица, на которую Уинстон свернул, пошла под уклон. Район выглядел смутно знакомым, неподалеку вроде бы находилась внутригородская магистраль. Впереди раздался гомон голосов. Крутой поворот, и лестница вывела в проулок, где лавочники торговали привядшими овощами. Уинстон понял, куда забрел: проулок ведет на магистраль, за следующим поворотом, минутах в пяти ходьбы, та самая лавка старьевщика, где он купил книгу с пустыми листами для дневника. Чуть поодаль находится писчебумажный магазинчик, где он приобрел ручку и чернила.
На верхней ступеньке Уинстон помедлил. В дальнем конце проулка притулился захудалый маленький паб с как бы заиндевевшими (на самом деле просто заросшими пылью) окнами. Глубокий старик с усами, как у таракана, скрюченный, но весьма бодрый, толкнул двойные двери и вошел внутрь. Уинстону пришло в голову, что ему лет восемьдесят, значит, Революцию встретил уже немолодым, он и его сверстники – последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии осталось мало тех, чьи взгляды сложились до Революции. Старшее поколение по большей части кануло в массовых чистках пятидесятых и шестидесятых, а немногие уцелевшие запуганы до такой степени, что полностью отступились от прежних взглядов. Если кто из ныне живущих и способен рассказать правду об условиях жизни в начале века, так это прол. Внезапно Уинстону вспомнился фрагмент из школьного учебника истории, который он переписал в дневник, и у него возникла безумная идея. Нужно отправиться в паб, познакомиться с тем стариком и расспросить его хорошенько: «Расскажите о своем детстве. Как вам тогда жилось? Лучше или хуже, чем сейчас?»
Торопливо, боясь передумать, он спустился по ступеням и пересек узкую улочку. Чистое безумие! Как водится, никакого прямого запрета на посещение пабов и разговоры с пролами не существовало, но за такое сумасбродство наверняка придется ответить. Если нагрянет патруль, можно сослаться на внезапную слабость, хотя вряд ли ему поверят. Уинстон толкнул двери, и в лицо ударила вонь кислого пива. Когда он вошел, гомон голосов снизился примерно вполовину. Все воззрились на синий комбинезон партийца. Игра в дартс в конце паба замерла секунд на тридцать. Старик, за кем следовал Уинстон, стоял у стойки, препираясь с барменом, дородным, упитанным молодым человеком с крючковатым носом и могучими ручищами. Вокруг толпились посетители со стаканами в руках, наблюдая за происходящим.
– Я ж с тобой вполне вежливо, по-людски, – недовольно бурчал старик, воинственно расправляя плечи. – А ты, кровосос, мне про то, что во всей твоей клятой забегаловке не сыщется кружка в пинту?
– Что, черт, за название такое пинта? – подался вперед бармен, упершись пальцами в стойку.
– Ишь ты! Бармен называется, а что такое пинта не знает. Пинта – это полкварты, четыре кварты – галлон. Мож, тебя еще и алфавиту придется учить?
– Никогда не слыхал о таком, – отрезал бармен. – Литр и пол-литра, мы только в таких подаем. Стаканы на полке прямо перед вами.
– Хочу пинту! Мог бы и нацедить старику. В мое время никаких клятых литров и помину не было.
– В ваше время, папаша, все жили на деревьях, – заявил бармен, бросив взгляд на посетителей.
Те взревели от смеха, и неловкость, вызванная приходом Уинстона, вроде бы исчезла. Усатый старик побагровел. Он отвернулся, бормоча себе под нос, и врезался в Уинстона. Тот бережно взял его под руку.
– Позвольте вас угостить, – предложил он.
– Уважь! – обрадовался тот, расправив плечи. Внимания на синий комбинезон Уинстона он, похоже, не обратил. И сварливо добавил: – Пинту! Пинту эля.
Бармен подхватил два пол-литровых бокала, ополоснул в ведре под стойкой и налил темного пива. В пабах пролов не подавали ничего, кроме пива. Джин им не положен, хотя при желании его можно раздобыть. Игра в дартс возобновилась, компания у стойки заговорила про лотерейные билеты. Об Уинстоне ненадолго забыли. Заметив у окна свободный стол из сосновых досок, он решил расспросить старика там. Конечно, затея ужасно опасная, но телеэкранов в зале нет, Уинстон убедился в том сразу, едва вошел.
– Мог бы и пинту мне поставить, – проворчал старик, устраиваясь с бокалом. – Пол-литра маловато, не напиваешься. А целый литр слишком много, потом не набегаешься. Не говоря уж про цену.
– Со времен вашей молодости многое, должно быть, изменилось, – осторожно начал Уинстон.
Взгляд бледно-голубых глаз прошелся от мишени для дартса к стойке, от нее к двери туалета, словно старик ожидал увидеть перемены прямо в пабе.
– Пиво было лучше, – наконец проговорил он. – И дешевле! Я когда молодым был, мягкое пиво… – мы его крепышом звали – было по четыре пенса за пинту. Это до войны, конечно.
– До какой войны? – спросил Уинстон.
– До всех войн, – уклончиво ответил старик. Он поднял бокал и снова распрямил плечи. – Ну, твое здоровье!
Заостренный кадык на тощем горле на удивление шустро заходил вверх-вниз, и пиво исчезло. Уинстон сбегал к стойке и вернулся еще с двумя бокалами. Похоже, старик забыл о своем предубеждении против целого литра.
– Вы намного меня старше, – заговорил Уинстон. – Наверное, стали взрослым задолго до моего рождения и помните, каково жилось в старину, до Революции. Мои сверстники знают о тех временах только из книг, но правду ли там пишут? Хотел бы узнать ваше мнение. В учебниках по истории говорится, что жизнь до Революции была совершенно другой. Страшная, невообразимая бедность, несправедливость, угнетение. В Лондоне огромные массы людей голодали с рождения до смерти, половина из них ходила босиком. Работали по двенадцать часов в день, в девять лет бросали школу, спали по десять человек в комнате. А вместе с тем очень немногие, всего несколько тысяч – их капиталистами звали, – жили богато и владели всем, чем можно. Занимали роскошные дома с тридцатью слугами, разъезжали на автомобилях и в запряженных четверкой лошадей каретах, пили шампанское, носили цилиндры…